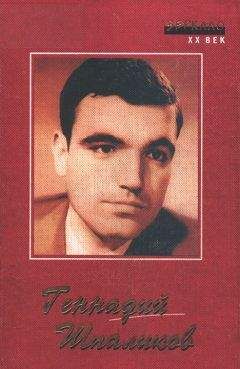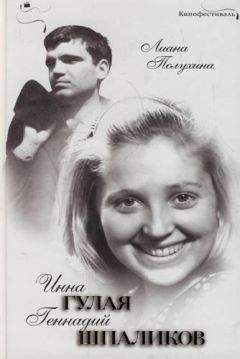— Ничего, разберемся.
— Ты будешь помогать? — Лена посмотрела на Женьку.
— Начинай… — сказал Женька.
Первый куплет Лена спела одна, очень старательно и хорошо, затем к ней присоединился Женька, заглядывая в бумажку, потом Владимир, разобравшись в несложной мелодии, заиграл на гитаре.
А ребята пели:
«Не тревожь ты себя, не тревожь,
Обо мне ничего не загадывай,
И когда по деревне идешь,
На окошко мое не поглядывай.
Зря записок ко мне не пиши,
Фотографий своих не раздаривай:
Голубые глаза хороши,
Только мне полюбилися карие.
Полюбились любовью такой,
Что вовек никогда не кончается…
Вот вернется он с фронта домой
И под вечер со мной повстречается».
Где-то в середине песни Люся встала и вышла из комнаты. Ребята кончили петь. Владимир молчал.
— Дашь потом списать? — спросил он у Лены, кивнув на бумажку.
— Возьмите, — Лена протянула ему песню. — Я уже и так выучила.
Владимир свернул бумажку и положил в верхний карман костюма. Потом он еще вышел и посмотрел на ребят.
— Все, — сказа! он. — Отбой.
— Еще, — Лена смотрела на него умоляющими глазами.
— Успеем, — Владимир встал. — Соседи все-таки. А ну, быстро в постель.
Он закрыл дверь и вышел на кухню. Гитару он нес в руке. На кухне было темно. Люся стояла у окна. Владимир поставил гитару на подоконник и закурил.
— Дай и мне.
— Возьми, — Владимир протянул сигареты, потом щелкнул зажигалкой, осветив лицо Люси.
— Хорошая зажигалка, — сказала Люся.
— Ерунда. Кремни кончатся, и можно выбрасывать.
— Ну, когда еще кончатся.
— Хочешь, подарю? — спросил Владимир.
— Давай. — Люся взяла зажигалку, щелкнула, вспыхнул фитиль.
— Что ты думаешь делать? — спросила Люся.
— Не знаю, посмотрим.
— Хорошо все-таки, что у тебя никого нет.
— Чего хорошего, — усмехнулся Владимир.
— Да так легче. И терять некого…
— Некого… Я столько за эту войну потерял… и ребята были… — Он помолчал. — Идиотская все-таки вещь война…
— Как ты выжил после всего?
— Не знаю. А кто это знает?
Женька стоял в трусах у приоткрытой двери, слушал.
— Пошли еще выпьем, — предложил Владимир. — Там еще осталось, я сейчас принесу.
Женька рванулся было от двери.
— Я больше не буду.
— Ну, тогда я буду один.
Владимир вошел в комнату, прикрыв Женьку дверью, взял со стола бутылку. В темноте вернулся на кухню.
Люся сидела на подоконнике, обняв гитару. Окно было светлое, лунное.
— Ты в темноте такая молодая, — сказал Владимир.
— Может, стихи почитаешь?
— Ни одного не помню.
— Ну, выпей.
— За тебя.
— Сыграй что-нибудь, — попросила Люся.
Владимир сел за стол.
— Что тебе сыграть?
— Что хочешь.
Владимир сыграл что-то спокойное, как медленный вальс.
— Ты была в оккупации? — спрашивал он.
— Нет, мы жили в Алма-Ате.
— Хороший город?
— Ничего. А что ты играешь?
— Не помню.
— Как же так, не помнишь?
— Да так, — он усмехнулся. — А я там думал, свистнули у меня гитару…
— Кому она нужна…
— Дрова все-таки…
Люся засмеялась. Владимир продолжал играть.
— Ты в снах разбираешься? — спросил он.
— А что?
— Мне вчера, в поезде, сон приснился: иду через поле по картошке, и вдруг у меня из-под ног выскакивает заяц. Большой, серый, и бегом к лесу.
— И все?
— Все. К чему бы ото?
— Не знаю. — Люся тихо рассмеялась.
Владимир перестал играть.
— Ты чего? — спросила Люся. — Играй.
— Я пошел спать. — Владимир спрыгнул со стола.
— Посидим еще.
— Иди спать, поздно.
Женька стоял у дверей и слушал.
— Ну, до завтра, — сказала Люся. — Одеяло тебе дать?
— У меня есть, — сказал Владимир. — Спокойной ночи.
— Спасибо, — шепотом сказала Люся.
И они тихо, не зажигая света, разошлись по разным комнатам.
А через некоторое время в пустой, лунный коридор вышел Женька, босой, в трусах. Остановился, зевнул. Невдалеке прогрохотал поезд. Женька подернул плечами, как бы согреваясь, развел в сторону руками, потом еще раз зевнул.
Кто-то осторожно постучал в окно.
Женька вздрогнул.
— Привет, это я, — Игорь чуть приоткрыл окно.
— Привет. Ты чего? — спросил Женька.
— Одевайся, — шепотом сказал Игорь.
Натягивая рубашку, Женька встал на подоконник, открыл окно и спрыгнул на землю. Затем он прикрыл окно.
— Ну? — он посмотрел на Игоря.
— Да вот, уезжаю, — сказал Игорь. — Проводишь?
— Куда ты едешь?
— В Минск, в ремесленное. Пошли, что ли?
Они пошли по пустой улице.
— Неохота, чтобы мать провожала, — говорит Игорь. — Слезы и все такое… И Надька тоже какая-то нервная стала.
— Одни ты у нас не нервный, — сказал Женька.
— Я нормальный, — сказал Игорь.
— А к нам сосед вернулся, — сказал Женька. — На гитаре играет.
— Теперь и ты выучишься, — сказал Игорь. — Приезжаю я через пять лет, а ты в Летнем саду с гитарой выступаешь вместе со своим соседом.
— Почему через пять лет? — спросил Женька. — Ты разве на пять лет уезжаешь?
— Я не знаю, Женька. Но, наверное, не на меньше.
— Так.
— Вот так, — сказал Игорь, — и пошли быстрее, а то я на поезд не сяду.
Они молча шли пустыми улицами города. Город еще спал. Он был знаком им обоим каждым своим переулком, домом, стеной. И Женьку, и Игоря, который сегодня уезжал, внезапно охватило такое чувство родины, что никогда не знаешь точно, как об этом говорить, какими словами, чтобы слова были не ниже, а равноценны этому чувству. Ни Женька, ни Игорь не сказали этих слов, они просто не умели говорить вслух об этом и шли молча. И еще было одно, о чем они тоже не могли сказать друг другу, стеснялись, что ли, — о том, что каждый из них много значит в жизни другого, о том, что они друзья, и вот сейчас они расстаются и надо что-то сказать особенное, важное.
— Билет у тебя есть? — спрашивает вдруг Женька.
— Так поеду.
— На крыше, что ли?.. Когда, под мостами будешь проезжать, голову нагибай, — сказал Женька, — а то сшибет… Куда тебе написать? — вдруг спрашивает Женька.
— Не знаю. Я тебе сам напишу.
— Ты знаешь я, кроме отца, никому еще писем не писал и лично мне тоже не приходили… — говорит Женька.
— Ну вот теперь придет.
Они вышли на пустую платформу. Никого на ней не было, ни одного человека в этот ранний час.
Они прошли к краю платформы, сели рядом, свесив ноги. Низко над рельсами, над полем стоял туман, густой и неподвижный, розоватый от восходящего над лесом солнца.
Игорь молча расстегнул свой мешок и достал из него две картофельные лепешки, завернутые в газету, большой крепкий огурец, луковицу и какую-то склянку с горлышком, которое было аккуратно обвязано чистой тряпочкой. Достал он, кроме того, оловянную кружку с мятыми боками, но тоже чистую солдатской чистотой.
— Надо проститься… — неожиданно серьезно сказал Игорь, — чтобы все, как у людей… У тетки достал…
— Кружка, жалко, одна, — сказал Женька.
— Ничего, мы из одной.
— Ты первый, — сказал Женька, — давай.
Впервые в жизни они пили вдвоем, если это можно назвать «пили». Скорее, они выполнили тот, как им казалось, взрослый мужской обряд, прощались, сами точно не представляя, на какое-то время.
Никогда в жизни у них этого больше не будет.
Ничего лучшего, чем это утро 45-го года, и потом они не раз вспомнят об этом.
А пока что Игорь поднял кружку, хотел что-то сказать, а потом качнул головой.
— Ну ладно. Будь здоров.
Выпил, стараясь, не морщиться, отломил половину огурца, другую протянул Женьке, и тот почему-то немедленно начал есть его.
— Ты выпей, а потом закусывай, — сказал Игорь.
— Сейчас, — он поднял кружку, — ну, привет.
Потом они молча съели огурец и по лепешке.
Туман, колеблемый утренним ветром, двигался уже к лесу.
И вот уже застучал совсем близко поезд, близко — вот он выскочил из тумана, и Игорь встал.
— Наш? — спросил Женька.
— Да, — Игорь завязывал мешок.
Поезд остановился. Он состоял почти целиком из теплушек, было и несколько пустых платформ. К одной из них подошли ребята. Остановились. Игорь забросил на платформу свой мешок.
— Ну вот, — сказал он.
— Сейчас поедет, — сказал Женька.
— Ага.
Они помолчали.
— Ну ладно, — сказал Игорь, — ты иди. Чего стоять.
— А мне все равно нечего делать, — Женька пожал плечами, — постою.
А поезд все не отходил, и ребята опять молчали.