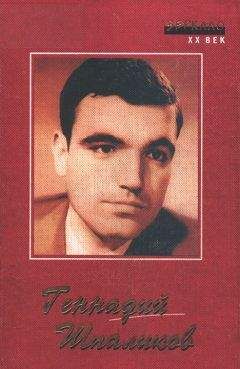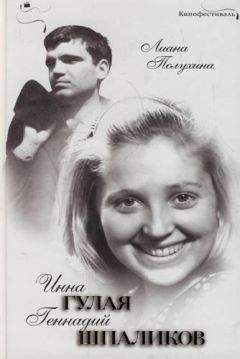Поезд остановился. Платформа сразу наполнилась людьми, стало шумно. Зина, Игорь и Женька пробивались в толпе среди поцелуев, объятий, среди таких же, как они, растерянно смотревших по сторонам в поисках родного лица, среди плачущих женщин и коротко стриженных, худых девочек, приехавших «оттуда», вернувшихся, уцелевших, живых.
«Надю Рудницкую не видели? — спрашивала Зина. — Надю, такая светленькая девочка, не видели?». — «Нет, — ответили ей, — нет». — «Надю? — спрашивали ее. — Она не из Зигена?» — «Не знаю, — повторяла мать. — Не знаю!». «Вы Надю не видели? — спрашивал Игорь. — Надю Рудницкую, светлая такая». — «Да нет, — отвечали ему. — Не знаем, не видели».
Никто не знал Надю Рудницкую, а она тем временем обула тяжелые ботинки, накинула на плечо мешок, встала в дверях вагона, чтобы сверху все видеть.
Она была тонкая, высокая, в черном берете и суконной грубой куртке. Лицо у нее было худое, глаза на нем, как всегда бывает в таких случаях, казались особенно большими. Надя напряженно всматривалась в толпу.
— Мама! — вдруг закричала она. — Мамка!
И спрыгнула на платформу в толпу.
Так они встретились, и Надя обняла мать, и Игорь обнимал ее с другой стороны, а Женька сразу почувствовал себя липшим, протиснулся на край платформы, где народу было поменьше. Обернувшись, он еще раз посмотрел на то, как встречали приехавших «оттуда», живых, — из Освенцима, Майданека, Дахау и из менее знаменитых лагерей, где все было точно так же, только они были поменьше.
Высокий человек взял его за голову.
Он вышел из последней теплушки, в зеленой выцветшей гимнастерке с погонами лейтенанта, в солдатских галифе, с небольшим мешком. Он был коротко подстрижен, как будто волосы только что отросли. Пилотку он держат в руке. Лицо у него было темное, как после сильного ожога. Его никто не встречал.
— Привет! — сказал он. — Ты, случайно, не меня встречаешь?
— Нет, — резко ответил Женька и отошел на два шага.
— Жалко, — сказал человек. — Хочешь, угадаю, как тебя зовут?
— Мне это не нужно, — сказал Женька.
Человек присвистнул.
— Нет, забыл, — сказал он, — забыл. Ну, пошли, нам по дороге.
— Никуда я с вами не пойду, — сказал Женька.
И тут, расталкивая всех на своем пути, мимо промчался коренастый, небольшого роста человек с погонами капитана, без фуражки — ордена и медали подпрыгивали у него на груди. За ним через толпу бежали люди. Выражение лица у капитана было самое решительное. Совершенно белое было у него лицо.
Пробежал платформу, он соскочил с нее, упал на колени, вскочил тут же и устремился к последнему вагону — самая последняя теплушка в составе.
Дальнейшие действия капитана были такие: он сбил на дверях теплушки замок, отодвинул двери. Быстро он все делал, ловко. Вагон внутри был заполнен вещами очень странными: стояла большая деревянная кровать, часы, висел ковер и что-то еще, скрытое в темноте теплушки. Надо еще сказать, что на крыше теплушки была прикручена веревками небольшая светлая машина — открытая летняя машина, очень красивая.
Капитан действовал стремительно: он облил вещи из канистры бензином, поджег все, и все вспыхнуло тотчас ярким пламенем.
А люди уже подбегали: и те, кто преследовал, и просто любопытные в толпе, среди которой были и Женька и этот высокий приезжий лейтенант. Осведомленные люди говорили: «У него всех, оказывается, немцы переубивали», «Жену, двух дочек и мать», «Всех поубивали еще в сорок третьем, а он и не знал», «Вот и узнал человек».
А он стоял спиной к вагону, из которого уже пробивалось пламя, и невольно отходил от него чуть в сторону, пятясь от надвигающейся на него толпы. В руках у него был пистолет.
— Коля, перестань! Брось, Колька! — умоляюще кричали ему. — Ну зачем ты, зачем! Колька!
Но капитан никого не подпускал к горевшему вагону. Он вез все это домой. Вез, зная, что ничего нет дома. Живым вез из Европы, которую прошел всю, а перед этим — четыре года войны. И все эти приобретения внезапно потеряли всякий смысл.
Капитану они были не так уж и нужны, а тех, для кого он все это привез сюда, не было уже на земле.
Лейтенант и какой-то человек в ватнике, не сговариваясь, бросились к вагону. Надо было отцепить его от состава — пламя грозило перекинуться на соседние теплушки, а капитан, отступая от надвигающейся на него толпы, ступил на груду угля, спиной начал подниматься на нее, не выпуская пистолета, и тут его схватили, обезоружили…
А вагон с белой машиной на крыше медленно уходил от состава: его успели оттолкнуть.
За ним бежали какие-то люди, кричали тем, кто был там, впереди, кто мог направить его в тупик.
Пламя уже охватило его, То исчезая за другими составами, то появляясь в просветах, медленно катился он по путям. Скользила над чужими крышами, над другими вагонами эта светлая, как бы игрушечная машина, пламя уже касалось ее, и, когда вагон открывался весь, попадая в освобожденные от теплушек пространства, он шел в белом огне, в потрескивании досок и еще чего-то, в дыму — поскольку это происходило днем, пламя почти обесцветилось на солнце.
Кто-то все-таки успел перевести стрелку, и вагон покатился в тупик.
Уже впереди не было ничего. Рельсы расходились в разные стороны, поблескивая. Вагон, догорая, катился по двум из них, а перед ним уже было только небо.
Они шли по улицам города, человек крепко держал Женьку за руку. Он с интересом смотрел по сторонам, а Женька рассматривал его. Волосы у незнакомца были совершенно седые, короткие. Он на ходу помахивал сжатым кулаком. Человек перехватил его взгляд.
— Что смотришь?
— Ничего, — сказал Женька и отвернулся.
— Отец живой? — спросил человек.
— Нет. А вы его знали?
— Знал когда-то.
— Я не пойду домой, — Женька остановился.
— Давно сбежал?
Женька промолчал.
— Ладно, как-нибудь договоримся, — сказал человек.
Перед Женькиным подъездом человек спросил:
— Ключ у тебя есть?
— Вот, — Женька достал из кармана.
Человек молча достал из своего кармана точно такой же.
— Видал, — улыбнулся он. — Пошли.
Женька с удивлением смотрел, как человек открыл своим ключом дверь их квартиры, вошел в коридор, зачем свернул направо, где до войны жили соседи.
— Так это вы и есть наш сосед? — спросил Женька.
Человек усмехнулся.
— Топор у вас найдется?
— Сейчас, — Женька принес из кухни топор.
Человек точными и сильными ударами отбил доски, скрывавшие дверь, потом выдернул гвозди, навалился плечом — дверь распахнулась.
Человек вошел в комнату и остановился на пороге. Это была почти пустая комната с одним окном. У стены стояла железная без матраца кровать, в углу — треснутое зеркало без оправы, а над ним на большом гвозде висела гитара.
— Ну что ж, — сказал человек, — все почти как раньше.
Он снял со стены гитару, осторожно приподнял ее, повернул. Гитара была покрыта ровным слоем ныли и казалась серой. Человек на секунду подумал, написал пальцем на серой поверхности «Привет» и поставил большой восклицательный знак.
Женька следил за действиями человека, стоя на пороге комнаты.
По городу гнали стадо коров.
Они шли среди развалин и тех немногих уцелевших домов, откормленные, черно-белые, с могучими боками — настоящие немецкие коровы.
Игорь и его сестра пробирались среди них. Коровы ступали медленно, важно-значительно, не обращая на них никакого внимания, не глядя, чистые, большие, независимые, ничуть не похожие на пленных, хотя вряд ли корова может ощущать себя в плену. Но, во всяком случае, жизнь вокруг них была совсем иная, чем там, в Германии.
Из домов выходили люди, останавливались на улице, смотрели.
Коровы шли через город, поднимая пыль. А гнали их солдаты, разомлевшие от летнего солнца.
Игорь и Надя переходили улицу, затерявшись в длинном, нескончаемом потоке черно-белого стада. Коровы были на редкость одинаковые.
Наде что-то попало в глаза, она остановилась, достала платочек. Корова вежливо обошла ее, наклонив тяжелую голову. Игорь тоже остановился, пропуская мимо себя лоснящегося быка.
— Интересно, как с нами будут разговаривать, — он обернулся к Наде. — Они же ничего по-русски не понимают.
— Что? — переспросила Надя.
— Ты меня понимаешь? — громко обратился Игорь к корове.
Та равнодушно посмотрела на него и отвернулась.
— Ничего не понимает, — сказал Игорь.
— Поймут, — сказала Надя, — привыкнут, — она усмехнулась. — Мы тоже не сразу все понимали…
У дороги стояли две пожилые женщины.
— Хорошая скотина… — говорила первая, в темном платке.
— Хорошая-то хорошая, а чем ее кормить?
— Да, плохо ваше дело, мамаша, — вмешался в разговор проходивший мимо солдат, — они же по утрам кофий пьют, с булочками.