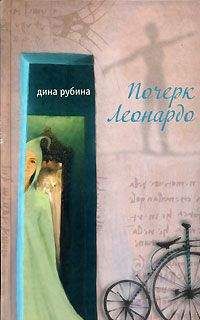Она сползла на пол, за спинку кресла, свернулась, окровавленными руками защищая лицо. И долго лежала неподвижно, тихо скуля… Ей чудилось, что она – ось карусели, и кто-то забавляется, разгоняя вокруг нее комнату все быстрее, быстрее. Даже с закрытыми глазами она словно бы видела кресло, в котором сидит… Но кто в нем сидит?
В конце концов, движение карусели замедлилось, и вся комната с креслом, в котором кто-то сидел, остановилась. Женевьева открыла глаза, пытаясь проморгаться от крови.
Одиноким утесом посреди вселенной стояло кресло. Очень важно было вспомнить – кто в нем сидит.
Сильная тошнота разлилась по всему телу Женевьевы. Даже ноги и руки тряслись от тошноты. И откуда эта кромешная тишина? Где Говард? И день ли сейчас, ночь, сумерки? Сколько она так лежит в натекшей откуда-то луже?..
Она с трудом поднялась на карачки… замерла… Схватилась руками за высокую спинку кресла и с третьей попытки встала. И тогда взгляд ее уперся в неподвижный затылок Анны. Балансируя обеими руками, Женевьева на цыпочках обошла кресло.
Перед нею, чуть привалясь к спинке, сидела абсолютно мертвая прямая Анна.
При виде этого лица с открытыми застывшими глазами, Женевьеву ударило разрядом ужаса. Она попятилась, закричала.
– Анна! Анна! – слабо, надрывно кричала она, икая. По дрожащим ногам заструилась моча. – А-а-а-ан-н-а-а-а!!!
Кошмарный сон стремительно отвердевал, становился неотменимой реальностью. Только сейчас она поняла, что случилось. Ее многодневные ужас и боль, и бредовая ненависть, и вздорные фантазии обернулись по-настоящему застылыми глазами мертвой Анны. К воплям Женевьевы присоединился вконец обезумевший Говард, перебирая весь доступный ему диапазон голосов и звуков.
Она попятилась, споткнулась об Аннин рюкзак, упала, опять вскочила…
Ее вырвало на ковер. И пятясь, не в силах оторвать взгляд от этого заледенелого лица, она достигла прихожей, ударилась спиной о дверь и вывалилась из квартиры…
И тогда Говард успокоился.
В полной тишине он слетел на плечо к мертвой, клюв раскрыл, склонил голову, внимательно рассматривая мочку уха, словно примериваясь – как бы ущипнуть ее поизысканней…
– Анна… – проворковал он. – Анна-мальчик! Дай поцелую!
* * *
Волосы еще были влажными. Их она, превозмогая слабость, вымыла прямо под краном в туалете той греческой кофейни, куда заехала, не вполне отдавая себе отчет – зачем.
Просто с улицы через окно заметила уютный угол из двух скамей, накрытых ткаными ковриками, и клетку под потолком. В ней сидела какая-то желтая птичка и упорно твердила лишь одно, зато звонкое и задорное коленце. Главное же, тут было тихо и пусто. Ни души.
Официантка принесла на подносе рюмку с коньяком, чашку кофе, расставила все перед Анной и вдруг сказала, испуганно глядя на ее макушку:
– У вас на голове рана? Вы что, не чувствуете? Здесь кровь!
– О, благодарю вас! – Анна прикрыла голову ладонью, отняла руку, посмотрела. – Да, я… ушиблась.
– Принести что-нибудь дезинфицирующее?
– Нет, спасибо… Если можно, полотенце… И, вымыв голову, долго отдыхала в уголке, под фотографией кудрявой босоногой девочки, сидящей на ступенях греческого храма. Девочка была очень похожа на маленькую Аришу. Кажется, даже косила.
У входа в кофейню торчало на столбе круглое зеркало, усталое уличное зеркало, проглотившее на своем веку такое количество автомобилей и пешеходов, что у иного случилось бы жестокое несварение.
Честно говоря, Анна не помнила, как попала на эту узкую покатую улочку в Утремоне. Говард, умница, дружище славный – без его участливого пощипывания и длинных телефонных трелей так скоро ей бы не вернуться… И хорошо, что за вождение любого транспорта у нее отвечает не мозг, а явно что-то другое, – сейчас она плохо понимала, как у нее хватило сил сползти с пятого этажа и сесть на мотоцикл.
В трехэтажном кирпичном доме напротив (две сбегающие полукругом витые лесенки словно уперли руки в бока) располагалась мастерская-рамочная. Ее владелец, изрядный затейник, придумал забавный ход: квадраты и квадратики, трапеции и прямоугольники обрамленных зеркал он развесил во множестве и в совершенном беспорядке в витрине и на стенах мастерской в глубине.
В каждом из таких осколков отражался фрагмент улицы: угол здания с фонарем, турникет с остановкой, витрина магазина дамского белья с двумя разъятыми манекенами и одной самостоятельной перевернутой ногой, крепко стоящей на культе и тянущей вверх синено-сочную ступню (помнишь, мол, похороны геройского протеза на пустыре, в детстве? А я тут вот живу интересной светской жизнью).
В самом крупном остроугольном фрагменте отражались вывеска над дверью китайского ресторана и окно той кофейни, где сидела Анна. Вернее, в зеркало попали только вензель металлической спинки пустого кресла напротив и руки с чашкой кофе. Беспорядочные осколки этого мира – порушенного, развинченного на части, сваленного в гигантскую кучу.
Ее охватило нестерпимое желание выкарабкаться, вырваться, вылететь из этой никчемной кучи.
Она подозвала официантку, рассчиталась, поднялась и вышла.
Надо было где-то перекантоваться. Самолет на Франкфурт вылетал только утром, и хотя мысль о самолете в последнее время стала невыносимой – как собственно, мысль о чем бы то ни было, – Анна все же надеялась, что во Франкфурте отлежится дня три в своей – не своей – мансарде. А там – одно к одному – уже и октябрь недалеко, недалеко октябрь с таким невиданно ранним снегопадом, за которым все равно ничего не видать.
Тут она вспомнила, что минут через десять начинается ежевечерний салют с острова Сан-Элен. Фестиваль небесных огней, необходимый фон для ее будущего шоу в казино «Де Монреаль».
Вот и посмотрим еще разок на эту забаву, сказала она себе, усмехнувшись.
Во влажной синей тьме доехала до старого порта: глухие бетонные цилиндры элеваторов, подъемные краны, похожие на гигантскую саранчу.
И едва добралась до многоэтажной стоянки, где собиралась оставить мотоцикл, над головой грохотнуло, ухнуло, пыхнуло небо золотыми брызгами, и вдруг все разом закрутилось на огромном полигоне черных небес.
Анна остановилась.
С детства она любила взмывающие огни. По праздникам они с отцом всегда ездили смотреть салют на Владимирскую горку, рядом с памятником Святому Владимиру – оттуда весь город открывался. Берег левый, берег правый вспыхивали гигантской медальной панорамой в зареве салютных огней. Но и любая одинокая ракета, и одинокая падучая звезда приводили ее в восторг, заставляя прослеживать весь зачарованный путь до угасания, до невидимых кругов на небесной черной воде…
Однако салюты ее детства не могли сравниться со здешней грандиозной вакханалией фестиваля.
В бешеном темпе из-за деревьев и домов вырастали и опадали букеты вертящихся огненных смерчей; взрывались пунцовые, ярко-зеленые, желтые шары; их покрывал фиолетовый дождь мелких бусин, что сползали по черному зеркалу вниз, а на них уже накатывались голубые волны, вылетали одинокие белые и синие цветы, поверх которых плавно и стремительно в жуткой тишине вырастала исполинская зеленая пальма и, качаясь, валилась на город и рассыпалась в заливе…
Утробно ворча последними шкварками, стелился на горизонте низкий лес белых огоньков. На мгновение воцарялась кипящая ожиданием тишь – и вдруг шибало сотней снопов золотого огня, и снова, и снова небо ахало, корчилось взрывами искусных персидских узоров, что разрастались, распирали купол неба, расшивая все новыми лилово-лазоревыми цветами вселенское полотно. А где-то на острове Сан-Элен, целая команда классных пиротехников готовила все для нового круга безумной огненной пляски.
Оттуда, где стояла Анна, открывалась дуга залива Святого Лаврентия и повисшая над ним, сверкающая огоньками рыбачья сеть моста Картье. Призрачный корабль казино «Де Монреаль» на острове Нотр-Дам плыл, сотканный из множества светляков. Гигантская прозрачная сфера американского павильона ЭКСПО-67 застыла неподалеку от чертова колеса…
И в мощных всполохах салюта пульсировало выпуклое черное зеркало залива, смыкаясь с черным зеркалом ночного неба.
Анна стояла, закинув голову, вдыхая протяжный – со стороны воды – запах водорослей, зажмуриваясь при особо мощных ударах салюта, негромко ахая: «Ай, браво!.. – и снова, изумляясь лиловому серебру взлетающих птиц, поддаваясь щемящему накату восторга в груди: – Ай, браво! Ай, браво!»
Вдруг почудилось: железная хватка ее неумолимого стража ослабла; показалось, что ее оставили… позволили… отпустили на волю! Обмерев от надежды, она качнулась, будто пробуя границы свободы для затекшего от оков освобожденного сердца, не смея верить – может ли быть… и с колотящимся сердцем: может ли быть, что… кончено, вышел срок, все отменено? – и жестокий приговор, и снежная буря, и тягостный морок бездомности… что вот еще мгновение – и в брызгах огней ей выпадет вольная, прямо в руки, под гремящий расписными соловьями сад золотой… под замшевый голос влюбленного Сениного фагота!