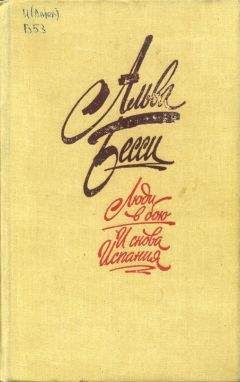После того как я шесть часов кряду протрясся в грузовике, который привез меня в маленький городишко по другую сторону реки (там меня настигает письмо от Табба — он лежит в госпитале с пулевым ранением головы: в письмо вложены сигареты и пакетик жевательной резинки), мне приходится торчать здесь весь день до девяти вечера — пока не освободится почтовый грузовик, который ездит за реку и делает остановки у каждой батальонной кухни. В бригаде, куда я попадаю только в половине четвертого утра, когда мой купленный в Барселоне, новый с иголочки костюм уже потерял свою свежесть, меня ждет сюрприз — оказывается, мы все еще в резерве. (Спать мне удается лечь только через полчаса — Дейву Гордону не терпится рассказать, как его ценит Гейтс.) Ждет меня и другой сюрприз — мне вручают посылку, первую и последнюю посылку, которую я получаю за время пребывания в Испании: Дейв Заблодовский и другие друзья из «Викинг-пресс» прислали мне четыре блока сигарет и восемь больших плиток шоколада.
Наши позиции занимает 45-я дивизия; наутро противник предпринимает парочку мелких вылазок, она с легкостью их отбивает. Наши батареи и батареи фашистов все еще состязаются — ведут дуэль через лощину, в которой залегли наши бойцы. Они тем не менее настроены куда бодрее: им пришли посылки от «Друзей Линкольновской бригады», и почти каждый, у кого есть хоть одна дружественная душа, обеспечен (на сегодня) куревом, а то и шоколадом. Вулф рад-радехонек: какой-то парень, который намеревался поехать в Испанию, заблаговременно отправил себе огромную посылку. В Испанию он не приехал, и Вулф предвкушает, как он будет щеголять в замечательной кожанке (на меховой подстежке); кроме кожанки, в посылке еще большие запасы исподнего всех видов, носков и прочих мелочей. К тому же парень, судя по всему, рослый, что тоже весьма предусмотрительно с его стороны. Джорджу Уотту достается банка с леденцами. Жизнь мне улыбается — вечером меня посылают в автопарк позади наших позиций, и там Лук Хинман, который помещается вместе с личным составом комиссариата (полное незнание испанского причиняет ему массу неудобств), раздобывает среди комиссариатских запасов настоящий матрас, и мы расстилаем его под деревом.
— Хорошо, что я тогда поделился с тобой сигаретами, — говорит Лук. — Я всегда знал, что получу их обратно.
Мы смеемся, я рассказываю Луку, как проводил время в Барселоне, как я за три дня шесть раз принимал ванну (отчего моя чесотка начала проходить); как Герберт Мэтьюз угощал нас настоящим виски с содовой в своем номере «Мажестика»; чем меня кормил Эд Рольф и как меня поразило, что я еще не отвык пользоваться ножом, вилкой и ложкой и не забыл, как сидеть за накрытым белой скатертью столом, уставленным стаканами, тарелками и чашками.
— Кончай, — говорит Лук. — Не надрывай мне сердце.
И мы садимся за бюллетень, боремся с франкистской пропагандой, приветствуем вновь прибывшее подкрепление — жалкий сброд, из бывших заключенных, бывших дезертиров, а также неустойчивых, ненадежных элементов, набранный где только можно правительством, которое начинает испытывать нехватку в людях. Мы цитируем заявление президента Чехословацкой республики Бенеша. «Некоторые элементы пытаются развязать гражданскую войну…» После того как Генлейн удрал к Гитлеру, нацистская партия в Чехословакии объявлена вне закона, в восемнадцати областях введено военное положение. Нас радует, что наконец-то против гитлеровского терроризма принимаются необходимые меры. Но день выдается тревожный, в небе над нашими головами то и дело схватываются наши и их самолеты. А непрекращающаяся дуэль между нашей и их артиллерией, во время которой наши орудия пытаются нащупать их батареи, а их батареи пытаются нащупать наши, приводит к тому, что обе батареи находят наш автопарк. Когда снаряды начинают падать поблизости, мы каждые десять минут вскакиваем, бросаем пишущую машинку и ротатор и бежим в недостроенные блиндажи. (В результате страницы путаются местами.) Лук сидит на подножке комиссариатского грузовика, я валяюсь на матрасе. Заслышав свист снаряда, мы мчимся во весь опор к террасе пониже нашей, прячемся под ней; когда мы возвращаемся, оказывается, что матрас в клочья изодран шрапнелью, в дверце грузовика зияют три дыры, шины пропороты и бензобак течет.
— Должно быть, судьба нас хранит для великих свершений, — говорит Лук; мы обсуждаем, почему на передовой мы тряслись куда меньше, чем здесь. — Я тебя чуть не облобызал, когда ты меня взял к себе, — говорит Лук. — А теперь я, пожалуй, не прочь вернуться обратно. Там безопаснее.
Зато кормят в автопарке на славу, готовят они из тех же продуктов, но всего на тридцать едоков, и вдобавок готовкой занимается человек, которого не кривя душой можно назвать поваром.
После ужина я возвращаюсь в бригаду, батальоны все еще полнятся слухами о нашем отзыве, который, по общему мнению, должен вот-вот произойти. Испанцы неизменно встречают нас вопросом: «Ну как, скоро домой?», нам приходится поелику возможно убедительнее уверять их, что это не так. Гордон рассказывает, что решение отозвать интербригадовцев принято, однако в свойственной ему рассудительной манере добавляет:
— Я чувствую, что роспуск Интербригад — серьезная ошибка, грозящая ухудшить международное положение.
— Почему? — говорю я. — Нас ведь трудно считать серьезной боевой силой.
— Товарищ, ты говоришь, как derrotista[178], — упрекает меня Гордон. — Я знаю, что мы уже не боевая сила, но, если толково заняться репатриацией, как следует наладить дело с отпусками, набором и всем прочим, мы могли бы себя реабилитировать и по-прежнему играть большую роль как в Испании, так и в международных делах.
— Пусть правительство этим занимается, тебе-то что?
— Так-то оно так, — говорит Гордон, — однако если правительство принимает мерь: к нашему роспуску, значит, оно считает, что отзывом интербригадовцев добьется большего, чем их реабилитацией. Ведь испанские газеты постоянно старались преуменьшить нашу роль в этой войне, хотя правительство и признает наши заслуги. Не станешь же ты отрицать, что во время операции Эбро как в наступлении, так и в обороне мы удерживали позиции там, где отступали другие части?
— И не подумаю.
— Тогда в чем же дело? — говорит Гордон с таким видом, словно что-то мне доказал.
Разговор этот происходит девятнадцатого сентября, на следующее утро я возвращаюсь в автопарк — его отнесли километра на два назад, к Море, подальше от артиллерийских обстрелов. Ночь я провожу там, на следующий день к обеду возвращаюсь в бригаду. Над дорогой висят фашистские самолеты, испанцы в кузове топают ногами, вопят, тычут в небо пальцами, требуют, чтобы Джим Фаулер остановил грузовик. Санчес, едва завидев самолет, перепрыгивает через борт и задает стрекача. Теперь ему предстоит долго топать на своих двоих. Вдобавок дорога обстреливается еще и артиллерией, так что мы несказанно рады, когда въезжаем наконец в устье лощины, где мы стоим в резерве. Однако мы тут же снова вступаем в бой — снаряды непрерывно свищут над нашими головами, нам приходится кричать что есть мочи — иначе друг друга не услышать. Хотя с тех пор, как меня перевели в бригаду, я хуже, чем раньше, осведомлен о том, что происходит, я все-таки знаю, что нас решили снова бросить в наступление; что наши заняли два холма в окрестностях Корберы; что без тех холмов, которые мы не смогли отстоять, нам будет трудно удержать наши позиции по левую сторону Эбро, поэтому нам предстоит их отбить. Две роты нашего 24-го батальона уже заняли вторую линию обороны, а это означает, что не пройдет и дня, как бригада будет введена в бой. (Идет к концу девятый день нашего пребывания в резерве — а нас почти никогда не держали в резерве больше десяти дней. Такая здесь практика — разумеется, когда ее удается придерживаться.)
Новости из Европы хуже некуда: Англия и Франция согласились на раздел Чехословакии, они выработали для нее компромиссный план. План этот циничен до крайности: по нему Судетская область целиком отходит к Германии; области, где живет много немцев, получают автономию; в случае серьезного столкновения между другими державами Чехословакия обязывается соблюдать нейтралитет, за что Англия, Франция, Германия и Италия «гарантируют» неприкосновенность ее границ. Убийцы гарантируют уважение к трупу убитого! Мы верим, что нынешнее чешское правительство никогда не пойдет на эти условия. У Чехословакии отличная армия. Ее народ знает, что такое подлинно демократический строй, он не один год жил при нем. У Чехословакии такая военная промышленность, которой могут позавидовать (и завидуют) многие. Поэтому мы надеемся, что Франция выполнит свои обязательства, что общее недовольство правящими кабинетами Франции и Англии приведет к их падению. Как мы ошибались!
Фашисты ведут мощное наступление по всему сектору. Британский и 24-й батальоны, занявшие боевую позицию по другую сторону шоссе на Мору, несут серьезные потери от артналета и бомбежки. В ночь на двадцать первое линкольновцев перебрасывают в лощину, над которой прежде размещался штаб, велят быть наготове. Орудия в эти дни звучат глуше: это орудия более крупного калибра, они дальше от нас. Орудия не смолкают ни днем ни ночью, их голоса возвещают нам, что Гитлер и Муссолини решили разделаться с Испанией, прежде чем двинуть дальше в Европу. Вальедор и Гейтс уехали подыскивать место для нового штаба; ближе к полудню снова слышится частый стрекот пулеметных очередей, с треском, как кукурузные зерна на сковородке, взрываются ручные гранаты, бухают орудия. Ближе к вечеру приходит сообщение, что линкольновцы в ожидании переброски на передовую потеряли при бомбежке тринадцать человек: четверо из них убиты, девять ранены, кто они — мы не знаем. Канадцы — их перебрасывают в последнюю очередь — по холмам тянутся гуськом к передовой; наша группа — Гордон, Лессер, Санчес и товарищ Cultura[179] — валяется под оливами, когда появляются самолеты. Один за другим, цепочкой, летят тяжелые «юнкерсы». Едва заслышав свист бомб, мы опрометью кидаемся в неглубокий блиндаж, который так и не успели закончить. Когда я оглядываюсь назад, мне видно, как падают фугасные бомбы, видно, как они ударяются о землю, — взрыв слышен лишь позже. Холм за нами, вмиг охваченный ярко-алым пламенем, медленно поднимается в воздух (красотища! — думаю я), и тут наконец раздается взрыв — взрывная волна сбивает меня с ног, я валюсь как подкошенный на дно блиндажа, за мной падают остальные, головы у нас раскалываются от грохота, мы лежим вповалку друг на друге.