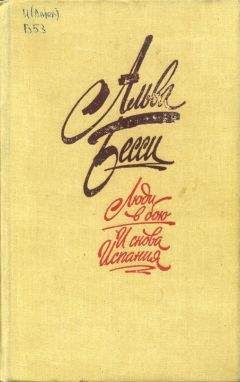Фашисты ведут мощное наступление по всему сектору. Британский и 24-й батальоны, занявшие боевую позицию по другую сторону шоссе на Мору, несут серьезные потери от артналета и бомбежки. В ночь на двадцать первое линкольновцев перебрасывают в лощину, над которой прежде размещался штаб, велят быть наготове. Орудия в эти дни звучат глуше: это орудия более крупного калибра, они дальше от нас. Орудия не смолкают ни днем ни ночью, их голоса возвещают нам, что Гитлер и Муссолини решили разделаться с Испанией, прежде чем двинуть дальше в Европу. Вальедор и Гейтс уехали подыскивать место для нового штаба; ближе к полудню снова слышится частый стрекот пулеметных очередей, с треском, как кукурузные зерна на сковородке, взрываются ручные гранаты, бухают орудия. Ближе к вечеру приходит сообщение, что линкольновцы в ожидании переброски на передовую потеряли при бомбежке тринадцать человек: четверо из них убиты, девять ранены, кто они — мы не знаем. Канадцы — их перебрасывают в последнюю очередь — по холмам тянутся гуськом к передовой; наша группа — Гордон, Лессер, Санчес и товарищ Cultura[179] — валяется под оливами, когда появляются самолеты. Один за другим, цепочкой, летят тяжелые «юнкерсы». Едва заслышав свист бомб, мы опрометью кидаемся в неглубокий блиндаж, который так и не успели закончить. Когда я оглядываюсь назад, мне видно, как падают фугасные бомбы, видно, как они ударяются о землю, — взрыв слышен лишь позже. Холм за нами, вмиг охваченный ярко-алым пламенем, медленно поднимается в воздух (красотища! — думаю я), и тут наконец раздается взрыв — взрывная волна сбивает меня с ног, я валюсь как подкошенный на дно блиндажа, за мной падают остальные, головы у нас раскалываются от грохота, мы лежим вповалку друг на друге.
Гордон днем уезжает, возвращается он лишь поздно вечером. Штаб бригады перебросили, я пытаюсь добраться до автопарка пешком, но меня останавливает патруль — приходится вернуться восвояси. Гордон ложится рядом со мной.
— Умеешь держать язык за зубами? — спрашивает он.
— Ты же знаешь, я — могила.
— Я был в дивизии, — говорит он. — Велено не пересылать нам ни писем, ни газет. Вчера Негрин произнес речь в Лиге Наций, сказал, что правительство собирается отозвать всех иностранных добровольцев.
— Вот те на! — говорю я.
— Чем ты недоволен?
— Ничем, — говорю я. — Просто подумал о ребятах, которые погибнут сегодня и завтра; нам сегодня ночью предстоит идти в атаку.
— Об этом не надо думать, — говорит он.
— Почему так?
— Да потому, что это неизбежно.
— Ерунда!
— Что ты хочешь этим сказать?
— Просто замечательно, что ты способен на такую объективность, — говорю я. Но он, конечно же, прав.
— Что ни говори, ничего от этого не переменится, — отвечает Гордон.
— Долго их еще тут продержат?
— Не знаю. Грузовик будет здесь еще затемно, так что завтра с утра пораньше отправляйся в автопарк, жди приказа. Я сейчас возвращаюсь в бригаду.
Я лежу в ночной темноте, прислушиваюсь к звукам боя; рассказ Гордона расстроил меня, поселил в моей душе смуту. Ничего тут не попишешь. Негрин сделал большое дело: он как нельзя более удачно выбрал время для своего заявления, оно произвело сенсацию в Ассамблее Лиги Наций. Заявление Негрина раз и навсегда разоблачило деятельность Комитета по невмешательству, показало всю ее нелепость; его заявление работает на правительство — оно скрывает тот факт, что Интербригады практически больше не существуют; оно поможет успокоить международные круги, недовольные тем, что иностранцы сражаются на нашей стороне; оно обеспечит нам симпатии испанцев, сторонников Франко. После этого заявления они смогут с полным основанием припереть Франко к стенке, сказать: «Теперь твой черед, отзывай своих иностранцев, иначе жди беды».
Мы еще до рассвета добираемся до автопарка, я бужу Лука Хинмана, рассказываю ему наши новости. Лук смотрит на меня и говорит: «Пусть сначала отзовут, тогда я поверю. Такие слухи и раньше ходили». Кое-кто из ребят в автопарке тоже прослышал об отзыве, единственный экземпляр газеты «Лас Нотисиас», который каким-то образом доходит до нас, изымает из обращения наш комиссар Джо Хект. Мы похищаем у него газету и, уйдя подальше от автопарка, с трудом разбираем испанский текст.
А теперь, господин президент «сказал доктор Негрин», я хочу осветить конкретный вопрос, который, собственно, и побудил меня выступить с этим заявлением.
Испанское правительство стремится не только на словах, но и на деле способствовать умиротворению, которого жаждут все; оно решило привести неоспоримые доказательства того, что войска Республики сражаются только во имя национальных интересов. Поэтому правительство намерено незамедлительно отозвать всех без исключения бойцов неиспанской национальности, участвующих ныне в испанской войне в рядах правительственной армии, то есть отозвать всех иностранцев безотносительно к их национальной принадлежности, включая и тех, кто принял испанское подданство после пятого июля 1936 года…
Негрин просит Лигу назначить комиссию, которая будет следить за отзывом добровольцев и осуществлять за ним контроль, а впоследствии выступит как очевидец перед лицом мировой общественности и засвидетельствует, что отзыв свершился. Далее Негрин продолжает:
Мы испытываем чувство глубокой скорби при мысли, что нам придется расстаться с этими мужественными, самоотверженными людьми, которые с удивительным великодушием пришли нам на помощь в тяжелый, может быть, в один из самых тяжелых часов нашей истории. Испанский народ никогда не забудет их жертв. Я хочу особо подчеркнуть высокую нравственную ценность их жертв — ведь они шли на них не ради корыстных интересов, а по своей доброй воле, исключительно ради защиты идеалов свободы и справедливости.
— Похоже, дело идет к отзыву, — говорю я.
— Еще как похоже, — говорит Лук. — Только поверю я в это не раньше, чем доберусь до Парижа и погляжу на все эти интересные местечки, про которые ты мне все уши прожужжал. В первую очередь на пояса целомудрия.
— А я — не прежде, чем наш пароход оставит французский берег далеко позади, — говорю я.
Весь день гремит артиллерия, автопарк ей так и не удается нащупать, однако обстрел не прекращается ни на минуту; даже не верится, что так бывает.
— Ну прямо как на мировой войне, — говорит один из шоферов, которому довелось в ней участвовать.
Всевозможные новости, слухи стекаются в автопарк; мы узнаем, что капитан Ламб был снова ранен: на этот раз куском шрапнели ему пропороло шею; мы узнаем, что Джим Ларднер, который прошлую ночь провел в дозоре, был убит или взят в плен, когда его отделение застиг врасплох внезапный обстрел; мы узнаем, что бригада дрогнула и ее отводят в стратегических целях.
Мы сидим на земле, прислушиваемся к шуму идущего неподалеку боя; дружно радуемся, что не участвуем в нем. Поминутно над нашими головами проносятся самолеты. Вот со стороны реки появляется звено наших «moscas» — монопланов с низко расположенными крыльями, — внезапно они разлетаются в стороны, как стая вспугнутых куропаток, проносятся над нашими головами на бреющем полете, поднимаются футов на сто, а то и меньше и летят к передовой. Маневр этот, имевший целью захватить противника врасплох, явно достиг своей цели; мы слышим, как их пушки на бреющем полете бьют по врагу; несколько минут спустя «moscas» возвращаются в том же боевом порядке. Мы встаем, приветствуем их; они, пролетая над нами, машут нам крыльями.
— Вот бы где нам с тобой воевать, — говорю я Луку; он соглашается.
— Черт побери, — говорит он. — Я уже лет десять не водил машину, я учился на старом учебном самолете. Когда я во второй раз полетел в одиночку, я посадил в машину и свою будущую, и тогдашнюю жену.
— А я налетал восемнадцать часов в одиночку, — говорю я. — Из нас бы с тобой вышли боевые летчики что надо.
— Лучше не бывает, — говорит Лук.
Высоко в небе над нами идет воздушный бой. На высоте десяти, а то и пятнадцати тысяч футов самолеты, десятки самолетов, ведут бой. Порой ты их не видишь, порой видишь; однако разобраться даже в том, что видишь, невозможно; пронзительный рев моторов звучит все громче и громче, тебе начинает чудиться, что он раздается где-то прямо над головой. Самолеты рычат и воют, как стая волков; мы выбираем одну пару и решаем наблюдать за ней. Пока я слежу за ними, у меня устают руки и ноги; я непроизвольно нажимаю на педали, вожу ручкой управления, пикирую, делаю полупетли и полубочки (иммельманы), восьмерки, боевые развороты, перевороты через крыло — хочу сбросить фашиста со своего хвоста. Устаю ужасно; тут мы замечаем, что один из самолетов, набрав высоту, входит в штопор.
— Ему каюк, — говорит Хинман.
Мы не спускаем глаз с самолета — бешено крутясь, он падает в штопоре. Дроссель у него полностью открыт, пропеллер воет, вращаясь вокруг продольной оси, самолет приближается к земле.