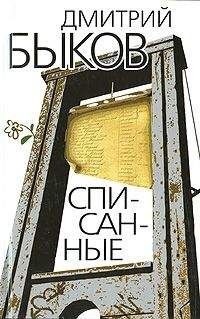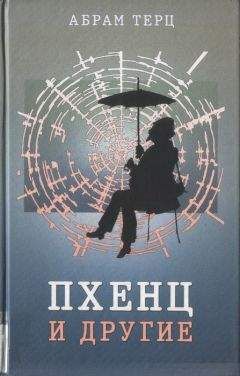Что Панкратов попросился — это очень хорошо. Это отлично. Свиридов чувствовал радостное возбуждение: давно его догадки не подтверждались так отчетливо. Ходить куда-нибудь под одними знаменами с Панкратовым — это последнее дело. Так он и сказал:
— Ты знаешь, что он через меня пытался создать партию «Родненькие»? Ты в курсе вообще, что он никуда не смог устроиться и поэтому подался к тебе?! Это провокатор, законченный. Человек вообще без совести, без правил, без всего — как ты можешь, Валя?!
— А как я иначе могу, Сереж? Я только начала, а дальше… Ты же видел. А что делать? Вот Чумаков, ты же знаешь, что там с семьей. Там с матерью его совсем плохо, и сам он никакой, говорят, и еще Карцева взяли…
— Какого Карцева?
— Маленького, усатого. Совершенно ни за что, наркотики подбросили и взяли. Он из университета, физик-аспирант, какие у него наркотики…
— Когда взяли?
— Я вывешивала инфу, но его отец из Краснодара приехал, попросил снять. Шума не хочет. Они все не хотят шума, а потом начнется, и поздно будет…
— Что начнется, Валя?! — заорал Свиридов. — Что еще начнется?! Все уже началось, здесь никогда иначе не было! Что ты лезешь в эту воронку, зачем провоцируешь их — они ведь будут только рады вас всех повязать! И будут в своем праве — несанкционированное шествие! И ты знаешь все это, и ведешь их туда, и хочешь еще, чтобы я это одобрил, — так?
— Сережа, не кричи.
Да, конечно. Теперь она будет спорить с его тоном, потому что по существу сказать нечего. Он кричит, он виноват, Юпитер сердится и неправ.
— Я не знаю уже, как до тебя докричаться.
— Не докрикивайся, я слышу.
— Хорошо. — Он сел на диван и уставился на Валю в упор. Неожиданно она засмеялась.
— Смешной ты. Я отвыкла.
— Да, да. Милый и смешной. По сути мы имеем что-нибудь возразить?
— По сути… — Долгая пауза, надо полагать, просчитанная. — По сути мы имеем возразить то, что люди загорелись от первой искры, а я теперь не могу их развернуть. Не пойти тоже не могу. Это будет гапоновщина, разве нет?
— Будет, конечно. Это с самого начала гапоновщина.
— Но нельзя же так просто ждать! Нельзя же сидеть и ждать, пока они всех! Ведь понятно же, что этим кончится, что весь список идет в пасть!
— Все идут в пасть, — сказал Свиридов. — Никто из нас не выйдет отсюда живым, как учил еще Глазов. Правда, тебя тогда не было, ну так я сам тебе скажу.
— Сереж, не надо. Ты же понимаешь все.
Снова этот собачий взгляд. Хорошо отработано.
— Я не понимаю, чего ты хочешь. Ты хочешь одобрения? Чтобы я тебе спасибо сказал, что ты их тащишь на бойню? Пересажают список или нет — я не знаю, меня это в некотором роде тоже касается, и я перестал об этом думать, потому что не от меня зависит. Я не знаю, когда придут, возьмут, кирпич упадет, рак случится, не знаю. Но жить я должен так, как будто этого нет. «Жить так, будто умер» — знаешь такой самурайский принцип?
— Почему же ты тогда не пойдешь? — спросила она в упор. Грамотный, вовремя нанесенный удар. С ней нельзя заговаривать о принципах — тут же ударит в самый принцип. — Ты ведь уже умер?
— Немножко умер, — с вызовом ответил Свиридов. — Знаешь, «если зерно падши в землю не умрет…». Именно поэтому меня и не волнуют марши. Вы с чем несогласны? Марш прокаженных, несогласных с проказой, — спасибо, поздравляю, увольте.
— А ты согласен с проказой?
— А я ее не выбирал! Что вас всех объединяет, о чем вам вообще говорить, если бы не список?
— Теперь объединяет, — сказала она твердо. — Теперь — список. Это и есть наше общее. И если мы согласны быть в списке, то так нам и надо.
— А толку? Толку, Валя? Списки будут всегда, их составляет не ФСБ и не Рома Гаранин, их составляет каждый, в чьем-нибудь обязательно окажешься! Что теперь, идти башку подставлять?
— Я не знаю, — сказала она, снова изображая беспомощность. — Я только знаю, что когда говорят: «Евреи, выйти из строя», надо выходить, даже если ты не еврей.
— Кому надо?! — закричал он, вскакивая. Еще немного — и он ударил бы ее.
— Евреям надо… Если все выйдут — всех же не расстреляют…
— Расстреляют как милых. Меньше пленных — меньше расход.
— Тогда мне надо.
— Ну так и выходи, и не смей обличать белобрысых евреев, которые не выходят из строя! Что за философия, я не знаю, что за безумное требование все время умирать! Что ты все оправдываешь войной! Эти, на израильских форумах, где Лурье полощут, тоже все орут: война, война, мы воюющая страна! На нас падают ракеты, мы всегда правы! Сейчас никто еще не кричит: «Евреи, выйти из строя», — а вы уже шагаете!
— Потому что, когда крикнут, будет поздно, — сказала она, не глядя на него.
— А ты уверена, что крикнут?
— А ты — нет?
— А я — нет. И уволь, жить по логике войны я не собираюсь. По этой логике надо все прощать вожаку и объединяться с Панкратовым.
— Да не объединяйся, — сказала она. — Ну хочешь, я завтра не пущу Панкратова? Я сейчас ему позвоню и скажу, что он дома нужнее, надо сайт поддерживать, если что-то со мной или с Бодровой…
— Как же, останется он. Он теперь небось у Жухова правая рука. Кстати, я далеко не убежден, что сам Жухов пойдет на марш. Наверняка в пробке застрянет.
— Он пойдет, Сережа.
— Тем хуже.
— Сереж, — сказала она после паузы. — Если ты думаешь, что я все это не понимаю…
— Понимаю и иду, ага.
— Если все идут, то нельзя быть в списке и не пойти.
— Почему же? — Он остановился перед ней, засунув руки в карманы. — Я, например, не пойду. И уверен, что половина не пойдет.
— Да, наверное, — вздохнула она. — Я имею в виду — мне нельзя.
— Ну, если ты все решила — давай. Идите, переводите теоретический спор, в котором был еще хоть какой-то смысл, в плоскость мордобоя. Оно и проще. Средневековье так средневековье. Я не понимаю только, зачем тебе мое одобрение.
— А я сама не знаю, — просто призналась она. — Страшно очень дома одной сидеть. Мама плачет.
Он представил их жалкую квартирку, заснеженную клумбу под окнами, чахлые цветы на подоконниках, вечно несчастного ваньку-мокрого, плачущего по всем бедным замерзшим деревцам и кустикам за окнами; Валенькины грамоты под стеклом, пела в хоре, Валенькины детские рисунки. Хорошо оплетают, славно придумали. Кто раз придет, будет вечно виноват.
— Это я виноват, что она плачет?
— Да никто не виноват, Сережа. Я просто думала… ну совершенно же некуда деваться больше. Я к ним не могу.
Они сейчас у Волошина сидят, корреспонденты там… У корреспондентов рожи злорадные… Думаешь, мне кажется, я права во всем? Мне кажется, я вообще сволочь последняя…
— И все-таки идешь.
— Ну а как, Сережа?
Чуть не разревелась, но сдержалась. Был бы перебор.
— А так, — ответил он. — Справляться со своей проказой наедине. Делать из нее литературу, кто умеет. Жить, будто нет проказы. Есть разные варианты, но маршировать с трещотками, с провокаторами, с ворами в первых рядах — это спасибо.
— Сереж, — заговорила она быстро, подняв на него мокрые глаза. — Сереж, я никого в жизни не любила, как тебя. Ты можешь жить как хочешь, я ничего от тебя не требую. Сережа, пойдем завтра с нами, ради бога, пойдем…
— Это еще зачем?
— Ну не знаю, не знаю я! Почему-то мне кажется, что если будешь ты, они нас не тронут. Ты известный, тебя показывали, ты Тэссе своей пишешь…
— Я уже месяц Тэссе не пишу.
— Сережа, милый, пойдем. Пойдем, пожалуйста. Я с тобой не боюсь, никогда ничего не боюсь с тобой, я даже залететь с тобой не боялась, помнишь?
О, как безупречно она подбирала аргументы, как отлично строила речь; нет, эта девочка не пропадет. Когда-нибудь, лет через двадцать-тридцать, а впрочем, история ускоряется, — в дни, когда я буду листать мое досье, в том числе все эти доносы, которые воображал себе в первые списочные недели… тогда Валя будет королевой, лидером межрегиональной группы, любимицей телевидения, колумнистом обновленного «Огонька». Нас будут презирать за то, что мы не уехали. Пусть. Кончится-то все равно тем же самым.
— Валя. Валь, хватит.
Она хватала его за руки.
— Валь, я просто никуда не выпущу тебя завтра.
— Не выпускай, не выпускай, хорошо. Только пойдем с нами завтра, Сережа, ради бога, пойдем…
Что ты будешь делать! «Кончится тем же самым» — да, это верно не только применительно к истории, это верно применительно ко всему. На простынях, еще пахнущих Викой. Сволочи мы, сволочи, скоты, нет нам названия. И плакала, все время плакала, как тогда, со своим благоверным. Его не удержала, а меня, кажется, удержит.
Она заснула мгновенно, долгая бессонница, наверное.
Что мне теперь делать?
Придется идти.
Это решение заполнило комнату, как сундук. Нечем стало дышать. И во сне он все убегал, убегал.
14
В восемь утра Свиридов сел к компьютеру и открыл сайт Списка.