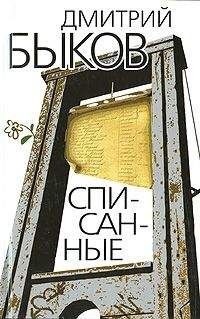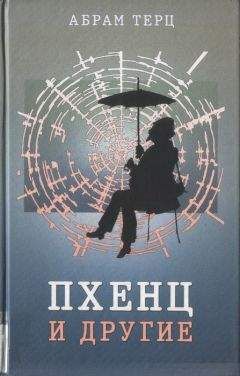В восемь утра Свиридов сел к компьютеру и открыл сайт Списка.
Он сделал это в безумной надежде получить последний толчок, обрести решимость, бросить на весы ничтожное привходящее обстоятельство: человек в тупике, в состоянии неразрешимого выбора, живет в беспрерывном ожидании решающего аргумента и прислушивается к чему угодно, цепляясь за четное число фонарей или трещин в асфальте, не понимая, что любой выбор будет хуже ожидания. Валя спала — счастливо и безмятежно, как народоволка перед терактом: решение принято, прочее в руках судьбы.
Свиридов открыл сайт и не нашел себя в списке.
В первый момент он, естественно, решил, что ошибся его измученный мозг. Он подробно, имя за именем, прокрутил свою, наизусть известную часть списка — Самсонова, Сварцевич, Стародумов… Стародумов шел сразу после Сварцевича. Свиридова не было. Он исчез. Его устранили.
Свиридов раскинул «Солитер», проверяя свою адекватность. Вышли два туза, но это было уже неважно. Он правильно различал масти и не путал карты. Все это что-то значило. Он проверил Валю: Голикова была на месте. Ее призыв так и висел сверху. До выхода на проспект Сахарова оставалось два часа.
Ругательски себя ругая за то, что новости списка для него важнее личных, Свиридов открыл свою почту на Яндексе. Непрочитанных писем было два. «Озон» приглашал на распродажу, Гаранин требовал: «Звони срочно!».
Он открыл гаранинское письмо, удивляясь размеренности и неторопливости собственных движений. Шестым чувством он понимал, что все уже нормально, но еще боялся словесного оформления: ад казался слишком близок и страшен, чтобы возвращаться туда.
«Серый! — писал Гаранин. — С тебя пузырь. Звонил с вечера но не дозвонился. Ты отключен на хуй. Я на связи. Ура не ссать. РГ».
Свиридов прочел и несколько раз перечел это письмо, с умилением отмечая пропущенные запятые. Торопился человек, хотел обрадовать. Надо, кстати, включить телефон (дотянулся, включил). Набрал Гаранина.
— Здоров! — заорал Гаранин. — Ты что, ебешься там? Добрые люди работают давно!
— Чего случилось-то, Ром? — полушепотом спросил Свиридов.
— У тебя чего, баба спит? Молодца, Серый, так их! Еби всех! — Рома был неплох уже с утра. — Короче, тебя вычеркнули, Серый! Ты понял? Ты вычеркнут на хер!
— Я уже видел, — сказал Свиридов.
— Че, на сайт ходил?
— Ну.
— Ты гляди! — восхитился Рома. — Как у них поставлено! Значит, уже и Бодровой сообщили.
— Да я думаю, они взломали давно.
— Кому он нужен его ломать! Ты правда что ли думаешь, что этот марш разгонят? Ни хера не будет, Серый! Я думаю, если они тебя убрали, они и других начнут помаленьку. А ты хоть знаешь, кто тебя отмолил?
— Ты?
— Бери выше!
— Ломакин? — предположил Свиридов.
— Какой Ломакин, почему Ломакин? Не знаю такого.
— Строитель.
— Какой на хер строитель! — Гаранин выждал паузу. — Тебя отмолила Лала Графова!
Ну что, вполне в жанре. У Кристи убивает наименее подозрительный, у нас все решает наиболее случайный. Только этот персонаж, раз упомянувшись, ни с чем не срифмовался — и вот, пожалуйста, выстрелило даже то ружье, которое все упорно считали граблями.
— Она приехала тут сниматься в «Западло»! — орал Гаранин. — «Западня», про шпионов, все его зовут «Западло», но ей оказалось не западло. Ее там в Голливуде никто не хочет знать ни хуя, а сиськи уже не те. Триумфальное возвращение. Приняли наверху. Она говорит — имею личную просьбу. У вас тут есть очень талантливый сценарист, у него проблемы. Какие проблемы, нет проблем, сейчас решим. Ну и все, и ты в шоколаде. Я так думаю, Серый, она там дала. Не знаю кому, но факт, дала. Иначе бы, сам понимаешь… Ну?! Ты счастлив?!
— Абсолютно, — сказал Свиридов.
— Ну? Когда мне напишешь че-нибудь?
— Теперь быстро.
— Ну давай!
— Давай.
Свиридов осторожно положил телефон на стол.
Только теперь он почувствовал, какая глыба давила его все это время. Невозможно было представить, как он прожил с этим четыре месяца, какое четыре, скоро пять. «Проказа с Генриха сползла». Где он это читал? Классе в пятом, в Библиотеке всемирной литературы. Том из родительской библиотеки, утеха среднего совка. Гартман фон А-у-э, «Бедный Генрих». «Но тут родительских ушей стенания коснулись, и мать с отцом проснулись. За то, что была в них душа человечья, за их милосердье и добросердечье, проказа с Генриха сползла, Господня милость его спасла». Никакого особого милосердья и добросердечья Свиридов за собой не помнил, но, может, он подал правильному нищему? Бывают же правильные нищие, есть обычные, а есть особенные, у которых самый прямой провод с Господом. Это сюжет, можно развить. Опять появились сюжеты, их можно было развивать. Словно вырвали зуб, сравнение, всегда приходящее в голову, когда исчезает давняя и унизительная боль. Перед стыдной радостью освобожденья ничтожно было все — даже мысль о Вале и о том, как, собственно, теперь Валя. Валя была только часть этой боли, нужная лишь для того, чтобы о ней забыть. Грех признаться, но это ведь так. Никогда не любил Валю. В-Аля, аббревиатура, вынужденная Аля. Кто эта женщина, зачем она тут лежит? Пусть идет маршировать куда угодно, у прокаженных свои радости.
Разумеется, в следующую секунду Свиридов забыл свое стыдное облегчение и оставил гадкие мысли. Но зоркость дана человеку не только затем, чтобы подмечать чужие мерзости, — это черта списочности, где все только и следят, у кого больше язв, у кого лик львинее, — но и затем, чтобы знать гнусности за собой. В конце концов, это моя профессия. Хорошо уже и то, что я все это вижу.
Ну и что, идти мне теперь на марш или нет?
Господи, конечно, нет. Как можно. Это еще пошлее, чем Борисов, вписавшийся в список добровольно в надежде отвести более ужасные расправы. Примазываться к искусственному, донельзя отвратительному столпничеству… ладно, пока я был в списке — это обсуждалось. Но теперь, когда вычеркнут…
Свиридов встал и прижался лбом к ледяному стеклу.
Что со мной, Господи? Во что я превратился за четыре месяца? Я в самом деле думаю, что меня откуда-то вычеркнули, хотя как можно вычеркнуть меня из списка людей, посмотревших бездарный фильм бездарного фигляра? Я в перечне прокаженных, и меня уже нельзя вычеркнуть оттуда. Я должен пойти туда, где возражают против самого этого порядка вещей: туда, где прокаженные требуют разрешить им ходить без трещоток.
Но почему я должен идти ради этого на манифестацию в честь чумы? Ведь они предлагают взамен проказы чуму, холеру, ведь это не выход, там нет выхода. Победит только тот, кто вычеркнет себя из всех списков, кто вообще откажется мыслить в категориях списка, — и сделать это можно только в одиночку, тихо, дома, ни словом не заявляя о себе, ибо где заявление — там тут же новый список… Есть только одна свобода — свобода клопа в щели, тотчас подсказал внутренний голос. Да, клопа в щели, прикрикнул Свиридов на внутренний голос. А ты пошел в жопу, слышать тебя не хочу. Ты думаешь, говоря мне гадости, ты прав? Вспомни лучше вообще, кто тебя кормит.
Валя спала. Свиридов раскинул пасьянс. Вышли три туза.
Он не знал, что скажет, когда она проснется. Вероятнее всего, в сотый раз изложит премьерную версию Гаранина или попробует объяснить наконец, — ведь наедине с собой это всегда получалось, — почему прыжок из огня в полымя никого не приближает к свободе. Теперь уже не важно, что говорить. Он смотрел в окно, на детей, торопившихся в школу. Половина девятого, скоро звонок. Третий звонок для учителя, первый для вас. По первому уже надо сидеть в позе «кротко». Какая мука, в самом деле, какое унижение — каждый день вставать в семь утра, ладно, в пол-вось-мого, торопиться в класс, в царство сплошной и всеобщей несвободы… Как хорошо, что я купил себе прекрасное право спать до девяти. Сегодня холодно, и я не пойду ни на какой марш. Я никому больше ничего не должен.
Да, но не у всех же есть Рома Гаранин и Лала Графова! Ну и что, тут же осадил он проклятый голос, я не виноват, что по крайней мере у меня они есть. Остальные пусть выкручиваются как им угодно, — с меня хватит. Интересно, где моя ворона. А вот и она.
Огромная, черная, нахохлившаяся, она сидела на липе напротив и внимательно изучала окно Свиридова. Кажется, она была чем-то недовольна. Во всяком случае незаметно было, чтобы она его поздравляла. Сидит и смотрит, и ведь не денется никуда.
Валя проснулась мгновенно, как всегда, — только что безмятежно лежала в своей футболке и вот уже спустила ноги на пол. Долго валяться, нежиться — не ее стиль. В школе небось была отличница: странно, никогда не спросил. А скорей всего, и не спала, все слышала, догадалась.
— Здорово, — сказал Свиридов.
— Чего не спишь?
— Так.
— Ага. — Она быстро и прозаично одевалась, минимум эротики. — Кофейку сваришь?