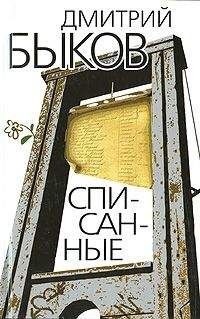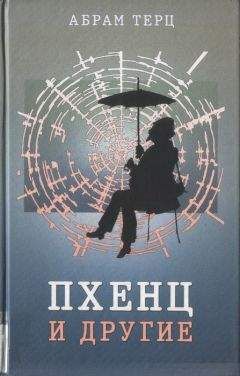В первых числах декабря Валя вывесила сообщение: Чумаков слепнет в тюрьме, оказался диабет, лечения нет. Позвонила Тэсса с просьбой о подробностях — Свиридов попросил больше не обращаться. Слепнет, очень жаль. Зато Бобров с клубом «Список» преуспевает, к нему стали даже захаживать «Местные» — произвели, правда, погром и не желали платить, но он это как-то замял, и через неделю они наведались снова, уже заплатив. Хоть и бывший, а свой. Стало быть, никакой списочной предопределенности тут нет, и Чумаков в тюрьме не за список, а, может быть, за диабет. Никто ничего не знает, и почему вообще шум? Все это было так пошло, особенно с Викиной точки зрения, на которую он теперь все чаще становился. Виктория, победа. А другой модели поведения просто нет. Где-то, может, и есть, но тут нет.
Пятнадцатого декабря Валя разместила призыв о выходе на марш. Плюс обращение Жухова с воспоминаниями о том, как он лично еще когда-а-а резко критиковал, протестовал и огребал полной чашей, а теперь фабрикуют дела, отбирают дачу, и он лично возглавит демократическое шествие, ваш нежный, ваш единственный. Разумеется, проспект Сахарова. Долго думали над датой и вот определились, ничего удачней не могли выдумать: католическое Рождество! Да теперь любому будет ясно, кто выдумал и натравил: еще и эта ее работа в американском фонде, и явное финансирование, о котором кричали «Свои» при поддержке «Тутошних», он путался в этом своячнике… Тоже мне марш. На что надеются? Тут же запрет, да и кто бы ждал другого? Они вздумали подать официальный запрос, им издевательски ответили, что на проспекте Сахарова большое движение. Предупредили, что отреагируют адекватно. Кто б сомневался. У Свиридова возникла крамольная мысль: что, если попробовать отговорить, позвать Валю на «Родненьких», забросить тему? Надо ли ходить на марши и все такое? Начальство предсказуемо посоветовало забыть; правильно, я бы сам посоветовал. И какова, в самом деле, мерзость: поистине все друг друга стоят! Чумаков слепнет, но почему надо прикрываться Чумаковым ради осуществления чьих-то бесспорно сомнительных целей? Я не верил и никогда не поверю во всю эту чушь про отъем нефти, но заинтересованность Тэссы — это же очевидно, нет? И Валин фонд, он ведь не белорусский, так? Не арабский? И списанты пойдут на проспект, и их отлупят, а то и пересажают — разве нет? Какого вообще черта?
Он попробовал влезть с этим на списочный форум, но десяток списантов под никами — он даже не брался угадать, кто есть кто, — накинулся на него с визгом: агент, пошел вон, среди нас провокатор! А вы чего ждали, интересовалась Housemouse, что они так стерпят? Нет, они, конечно, попытаются разложить изнутри! Позор, вон отсюда, забанить, вычислить IP! Список быстро и неуклонно развивался в полноценную секту, но списанты были наконец прочно и солидарно счастливы — вряд ли в их жизни было время лучше, чем этот декабрь. Широко обсуждалась подготовка к шествию: кто-то писал плакатики «Всех не перепишешь!» и «ФСБ, ты не Шиндлер!», кто-то увеличивал для транспаранта портрет Чумакова. Немыслимо было и представить себя в этом строю. Нацболы предлагали участие. Шла бурная дискуссия о приемлемости нацбольской помощи. На юзерпике нацбола Перца появился плакатик «Я тоже в списке!».
Но чем больше Свиридов смотрел на весь этот бедлам, тем отчетливее понимал, что пойти на проспект Сахарова придется — по той же отвратительной причине, по какой отец три раза ставил чашку на стол; по которой он сам в детстве не ложился спать, не коснувшись всех углов в комнате, словно храня их в предверии ночи; по которой он трижды вставал, чтобы правильно щелкнуть выключателем в сортире. Здравствуйте, тотем и табу. Все мы чувствуем смутное неустройство в этом мире, сквознячок, повевание сквозь щели, — а потому отбиваем ритуальные поклоны и выходим на ритуальные шествия. Природа этих действий объяснима, не спорим; сложнее с причиной. Если бы все было хорошо, никто бы не молился, не кланялся; но нехорошо. У одних ритуалы попроще, у других посложнее, но штука не в том, чтобы ущучить ритуал. Штука в том, чтобы разобраться с причиной, а так как это не в наших силах, полностью избавиться от долженствований, навязчивостей и обсессий может только безнадежный идиот. Не пойти ли мне в самом деле на марш? Разумеется, мне не пойти на марш. Но живу ли я, вправе ли я называться живым — здесь, в уютном вневременном небытии, отгородившись от списка? Ведь это я сам выбрал от него не зависеть, а кто-то вписал меня туда; вдруг в этом был смысл?
Он хотел поговорить об этом с Викой, но знал, что она скажет. Вика никогда не делала того, что не хочет. У нее с детства было счастливое врожденное чувство, что желание ее левой ноги есть мировой закон. Так тоже можно. И она была красива, эффектна, желанна — обладание ею было почти так же лестно, как обладание истиной. Но писала она плохо, это надо признать; очень плохо — фальшиво, вычурно, жежешно. Оттого и числилась в тысячницах, и многие подражали ей.
В таких размышлениях Свиридов раскладывал «Паука» в ночь на двадцать четвертое, ничего не зная, ни к чему не придя. Надо было писать диалоги к «Детской площадке», заказ СТС, история папы-одиночки с двумя детьми, женившегося на маме-одиночке с тремя, — но он раскладывал «Паука», и «Паук» не сходился. Это было не просто так. Он нервничал, начинал игру с начала, — две колонки сходились, больше никак. Плюнул на все, начал новую — сплошь черная масть, начал опять — стало что-то вырисовываться; он бормотал — «Вот, уже что-то на что-то похоже»… Позвонила Людмила: «Я надеюсь, ты не идешь завтра на эту чушь?» — «Что ты, дорогая». — «Помни, мать с ума сойдет!» Неожиданно разозлился, закричал: «Может у меня быть своя жизнь?! Когда я тут полгода с ума сходил, ты позвонила один раз — спросить, не могу ли я через «Родненьких» починить стояк твоей коллеге!» — «Так ты пойдешь?» — «Это мое дело. Матери ни слова». Черт бы подрал Людмилу. Никогда никем не интересовалась, кроме себя, а муж вообще дуб. Ведь сходилось, но разозлился и потерял мысль. Злость помогла, начало выстраиваться — на отменах ходов растерял драгоценные очки, но за тысячу выйдет точно, — тут и раздался звонок в дверь.
Свиридов замер. Да, разумеется, они пошли по квартирам и взяли всех заранее, как я мог не предусмотреть. Если бы успел сложить «Паука», все бы обошлось. И глазка у меня нет в двери, никогда не думал, что понадобится. Ну, перед смертью не надышишься.
Он открыл дверь.
На пороге стояла Валя Голикова.
13
— Ну входи, — сказал Свиридов.
Вид у нее был несчастный, нос красный, но странным образом все это к ней шло — словно она и рождена была выглядеть так; одень в бархат — покажется уродиной, но сейчас, в жалкой курточке, с умоляющим лицом, заискивающим взглядом… Безошибочная, убийственная жалкость: никто не устоит. Свиридов знал, какая железная воля прячется за этой трагической — ах, если бы трагической, за кроткой маской, за мимикрией под ничтожество, убожество, растерянность. Но в первый момент пожалел, и она почувствовала.
— Я посижу часок, ладно? — быстро сказала она.
— Да хоть два. Пошли, чаю налью.
— Ага, спасибо.
Она разулась, чего никогда не делала Вика, и прошла на кухню.
— Давно я тут не была, — сказала она виновато, и Свиридов мгновенно опознал один из механизмов ее власти — жалкость, униженность, даже и затравленность; но не было прочней сети, которыми эта несчастная оплетала всех в радиусе ее досягаемости. Об этих механизмах мало написано, да и как сунешься? Если столько помогать каждому встречному, так и останешься нераскрытой. Штирлицу определенно надо было в рейхе заниматься благотворительностью; впрочем, он, кажется, так и делал.
— Слушай, — сказал Свиридов. — Мне не надо бы, наверное, лезть, и ты наверняка скажешь, что я агент.
Валя подняла на него измученные глаза, и он устыдился.
— Но все-таки, Валь: не ходите вы завтра никуда. Обзвони людей, скажи, что нет смысла, что получила новые сведения, я не знаю. Отмутузят же почем зря, а то вообще пересажают — ну зачем?
— Сереж, — сказала она беспомощно, — я вообще уже ничего не понимаю. Я не смогу это остановить, даже если захочу.
— Почему?
— Они сами уже, Сереж. Им хочется. Мне знаешь что Петя Трубников сказал? Что только сейчас и начал жить.
— Трубников?! — Свиридов покрутил пальцем у виска. — Он же ку-ку!
— Он не ку-ку, Сережа. Он нормальный человек. Да и все говорят — смысл, смысл. Ты знаешь, кто мне вчера позвонил? Панкратов!
— Оп-па! — А впрочем, чего и ждать. — Ты его пустила?
— А как я могу его не пустить. Он же в списке.
— Ну знаешь! — сказал Свиридов, поднимаясь с дивана и начиная кружить по кухоньке, как всегда в минуты волнения, когда он понимал и чувствовал больше, чем мог сказать.
Что Панкратов попросился — это очень хорошо. Это отлично. Свиридов чувствовал радостное возбуждение: давно его догадки не подтверждались так отчетливо. Ходить куда-нибудь под одними знаменами с Панкратовым — это последнее дело. Так он и сказал: