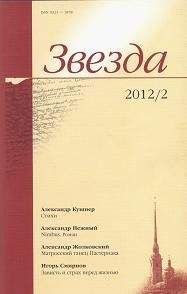Господин Непряев огорчился.
— Нельзя ж так близко к сердцу… А впрочем, — заметил он, — в противном случае вы не были бы тем самым доктором Гаазом, которого знает и любит вся Москва. Итак…
Авксентий Петрович кратко обрисовал появление в его домике у Пятницких ворот невесты Гаврилова Оленьки, отметив, что она, может быть, не столько красива, сколько очаровательна, и, главное, вся светится трепетным светом любви к нему, своему Сереже, которому вдруг выпало такое ужасное испытание. Видели бы вы ее глаза, когда она говорила о нем! Непряев извлек платок и шумно высморкался. В них и любовь, и страдание, и непоколебимая решимость добиться его оправдания, а если нет — разделить с ним судьбу.
— Не спорьте, не спорьте! — обеими руками замахал он на Федора Петровича, хотя тот сидел, не открывая рта. — И вам известно, и все знают, хотя бы из романов, а я знаю доподлинно, из практики, что бывают случаи, когда чудесные женщины губят себя ради какого-нибудь смазливого подлеца. Он негодяй, преступник, он попрал все законы Божеские и человеческие, а для нее — идеал и жертва клеветы. Тут, знаете ли, прозрение, — господин Непряев как-то особенно сжал губы и покачал головой, — смерти подобно. Далеко не все могут перенести вдруг открывшуюся правду. Но не наш, не наш, слава богу, случай! И она — чудесная, замечательная, очаровательная, вся такая, знаете ли, свечечка, и он, судя по отзывам, мною полученным, весьма и весьма достойный молодой человек. Его матушка — знаете, как это бывает, — с одной стороны, убита горем, с другой — полна надежды, писала государю… Ах, Федор Петрович! Были бы люди чуть добрей друг к другу, преступлений, уверяю вас, стало бы намного меньше. Дело в Сенате, где его могут мариновать сколь угодно долго… Но! — Авксентий Петрович неведомо кому погрозил указательным пальцем. — Во-первых, и в Сенате далеко не все выжили из ума, во-вторых, обвинение дутое, и оно лопнет как мыльный пузырь, я вас уверяю.
Свидетели? Господин Непряев саркастически улыбнулся. Два мужичка вечером возвращались с поминок, а в каком состоянии — сие иному толкованию, кроме одного, не подлежит: если не совсем пьяные, то не очень трезвые. Гаврилов ли входил в дом Натальи Георгиевны Калошиной, Олиной тетки, индийский ли раджа или турецкий султан, — Авсксентий Петрович махнул рукой. На следствии им велели указать на Гаврилова, они и кивнули: он. Бедной его матери не верят, Оленьке не верят, добрым свидетельствам о молодом человеке не верят… Заступиться за него некому, сильной руки нет, связей нет, а на роль убийцы, да еще, знаете, с этакой психологией, какую в обвинительной речи развел прокурор: обольститель, старая почтенная барыня, оберегающая от него юную племянницу, а с его стороны одно лишь хищное желание во что бы то ни стало завладеть наследством — о, тут он целый роман сочинил. В зале, говорят, плакали. Да еще два мужичка, у которых поджилки трясутся и которых прокурор — в мундире! при орденах! пуговицы чистого золота так и сверкают! стеклышки на глазах, будто изо льда! — спрашивает: он?! Он, ваше благородие, он! Как в деле об убийстве Луизы Дюманш все свалили на слуг, не имевших к преступлению никакого отношения, так здесь — на Гаврилова. Там все указывало на любовника, которому Луиза надоела хуже горькой редьки, а здесь — на заезжего молодца, который в Коломну на пару дней, проездом, нырнул и вынырнул, прикончив старуху и прихватив драгоценности из ларца, что стоял на столике возле постели.
— Вот-с, извольте, — и господин Непряев развернул перед Федором Петровичем небольшой сверток. — Бриллиантовое колье старухино, пара медальонов, три перстня… Все опознано, все принадлежало ей, Наталье Георгиевне. Были, говорят, еще браслеты, кольца… деньги были… Но! — Авксентий Петрович пожал плечами. — Успел, должно быть, просадить в карты…
— Позвольте, — от сильнейшего изумления Федор Петрович частично утратил дар речи. — Wie es aller ist?[133] Позвольте! Как это… — он указал на драгоценности, — у вас?
— Ремесло, сударь мой, ремесло! — рассмеялся господин Непряев. — Вы, господин Гааз, доктор, а я сыщик, и, смею сказать, недурной. Вы, надо полагать, сухаревские трактиры, игорные дома и притоны объезжаете стороной, а я там, прошу прощения, каждую собаку знаю. И дружбу вожу, с кем надо, и на бильярде при случае сыграю, а когда и шепну кому-нибудь, чтобы уносил ноги, — тут, Федор Петрович, на одном законе и шага не шагнешь.
Нельзя утверждать, что для доктора Гааза Сухаревский рынок представлял своего рода terra incognita.[134] В пересыльном замке, тюрьмах и больницах он встречал людей, чья жизнь была крепко повязана с Сухаревкой и ее ошеломляющей честного обывателя страстью: на грош пятаков! Федор Петрович поначалу никак не мог понять смысла этих слов, ибо грош есть грош, самая мелкая медная монета, пятак же гораздо больше по номиналу, а Сухаревка от мала до велика была одержима стремлением всего на один грош заполучить горсть пятаков. Поначалу он полагал, что это, должно быть, какой-то фокус, наподобие тех, которые показывали на рождественских ярмарках в Мюнстерайфеле или Кельне, — когда, к примеру, вызванный из толпы человек вдруг обнаруживал в своих карманах настоящие серебряные монеты, которые, однако, буквально через минуту испарялись неведомо куда, и он под общий гогот ротозеев озадаченно скреб затылок. Этот фокус был всего-навсего ярморочной ухмылкой, шуткой, безобидной насмешкой, хотя, может быть, невесть откуда свалившееся и тут же исчезнувшее богатство оставляло в душе его недолгого обладателя щемящую царапинку, — тогда как Сухаревка за свои на грош пятаков беспощадно обманывала, дурила, вымогала, крала, а при случае могла и убить. Вот и этот Звонарев Иван Артемьев по кличке Крюк далеко не ушел с драгоценностями тетушки. Конфиденты Авксентия Петровича, само собой под строжайшим секретом, шепнули, что однажды ночью в трактире Безуглова шла большая игра. Крюк денег кидал без счета, да все мимо; золотой браслетик с камушком поставил — и тоже просадил. Тогда он объявил: «Баста!» — поднялся уходить, да жулье его облепило: давай, Ваня, еще, тебе сейчас должно повалить. И стакан ему с тайно всыпанным белым порошочком от Федьки Кривого — он у них там мастер по части тихой смерти. Что ж, сударь, дальнейшее вам замечательно должно быть известно. Крюк в бегах, искать его покамест никто не собирался, а коли б и собрался — да где ж и кто его мертвое отыщет тело? Там та-акие мастера похоронных дел, что лет, может, через сто кто-нибудь где-нибудь случайно копнет, увидит белые косточки и промолвит: «Мир праху твоему, добрый человек!» Ага. Добрый. Десятка два душ порешил, никак не менее, — да и сам поганой смертью помер. А все камушки, что при нем были, прибрали — и к Флегонтию Макарычу. Он за них господам жуликам кое-что отсыпал и рукой махнул. Ступайте. Остальное, мол, потом. Ну, Флегонтий Макарыч человек известный. У него дело поставлено на глянец, с ним не поспоришь.
Этот Флегонтий Макарович, по словам господина Непряева, был прелюбопытнейшая личность. Безбожник, каких еще поискать, но на храм Христа Спасителя пожертвовал щедро; Бога не признает, но Библию почитает величайшей книгой, особенно Ветхий Завет, для чтения которого в подлиннике нанял в учителя старика-еврея, владеющего ивритом; театрал страстный, у него везде свои абонементы. А живет монахом, в доме на Первой Мещанской, где все его общество — старуха-прислуга, с которой он двух слов не скажет, и попугай, с которым он собеседует за ужином. «Ну, — говорит, — Карлуша, как наши дела?» И страшно бывает доволен, когда Карлуша гаркнет ему в ответ: «С прибылью!» С тетушкиными драгоценностями Флегонтий Макарович расставаться никак не хотел и по сему случаю вспомнил золотого Будду. Была такая у одного заезжего индуса чистого золота в пять вершков статуя, которая у него чудесным образом исчезла, затем оказалась в сундуках Флегонтия Макаровича, а уж потом перекочевала к генерал-губернатору, его сиятельству графу Арсению Андреевичу… Она у него по сю пору в спальне стоит. Что ж получается?! Ей-богу, как на театре, воздел руки Флегонтий Макарович. И тут, хотите верьте, хотите — нет, Карлуша возьми да гаркни: «Без прибыли!» Да еще нехорошо засмеялся: «Хо-хо!» Флегонтия Макаровича чуть удар не хватил. «Чертова птица!» — закричал он и что было под рукой, то и швырнул в Карлушу, но, по счастью, мимо. Господину Непряеву пришлось напомнить Флегонту Макаровичу, сколько раз он его выручал, а заодно очень даже кстати стих из Библии, что никому еще не доставляли пользы сокровища неправедные. «А какие праведные?! — завопил скупщик. — У кого?! Вы мне их укажите, я тогда все свое отдам… Вот этому юродивому доктору, немцу: на, лечи своих больных и корми своих нищих!»
И что, — немедля осведомился Федор Петрович, — он и правда готов помогать? И к нему можно обратиться?
Господин Непряев от души рассмеялся.