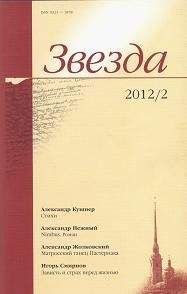Господин Непряев от души рассмеялся.
— Пустые мечтания. Вы у него в пустыне песка не допроситесь. Забудьте. Вот, — он указал на драгоценности тетушки Натальи Георгиевны, — главное. А действовать так.
Он придвинулся к Федору Петровичу и заговорил быстро и тихо. Симпатичное лицо его, не перестав быть симпатичным, приобрело жесткое, властное выражение.
Первое. Медицинское свидетельство, что в момент побега под влиянием различных обстоятельств у Гаврилова сделалось сильное нервное расстройство. Другими словами, он за свои действия не отвечал.
Федор Петрович кивнул.
— Keiner Einwünde.[135] С точки зрения медицины не будет никакого преувеличения. Несправедливое обвинение, мрачное будущее, болезнь, разлука с невестой — mein Gott, покажите мне человека, которому по силам все это выдержать!
Теперь уже кивнул господин Непряев. Мы не можем предъявить убийцу — но мы можем обратить внимание на открывшиеся новые обстоятельства, в корне меняющие дело. Гаврилов, утверждаете вы, убил, ограбил и надежно припрятал награбленное? А вот это колье Натальи Георгиевны, ее медальоны, перстни — все между прочим из одного и того же ларца — они почему оказались в других руках? Или, может быть, у Гаврилова был сообщник? Прекрасно. Тогда покажите его нам или хотя бы назовите — как мы можем назвать имя действительного убийцы госпожи Калошиной.
— В Сенате, — заключил Авксентий Петрович, — есть несколько человек, с которыми я довольно коротко знаком и которые, к счастью, сохранили способность здраво мыслить. Если ничего не получится в московских департаментах, я немедля отправлюсь в Санкт-Петербург, к обер-прокурору Сената Кастору Никифоровичу Лебедеву.
5
Nur das Ende knjnt das Werk.[136] Еще, правда, нельзя было основательно утверждать, что Гаврилов свободен и не сегодня завтра пойдет под венец с этой замечательной, самоотверженной, преданной ему девушкой. Однако Федор Петрович был отчего-то непоколебимо уверен, что именно так и случится — причем в самое ближайшее время. Он вздохнул. Если полнота счастья в браке, то, наверное, он прожил не очень счастливую жизнь. Но, вовсе не желая утешить себя и уж тем более печалиться о том, что ему выпала не самая лучшая доля, он рассудил, что, по слову Создателя, вместил в себя другое назначение и постарался добросовестно его исполнить. Любовь однажды проблеснула перед ним, обожгла и пропала, скрылась в коловращении жизни. Но и более полувека спустя ему все равно так памятно это чувство, трепещущая жаркая пустота в груди, оробевшее сердце и скованная речь. И среди многих согревающих душу перед последним странствием воспоминаний он непременно возьмет с собой и Свадебный фонтан в Вене, и букетик небесно-синих фиалок, чей цвет так напоминал ему цвет ее глаз… Он заглянул в свою жизнь, как в глубокий колодец, и где-то далеко, на застывшей глади черной воды ему показалась милая светлая тень.
Не правда ли, что с годами мы теряем больше, чем приобретаем?
У Федора Петровича резко усилилась боль под подбородком, он встал и прошелся по комнате. Какая неприятная, тянущая, подбирающаяся к сердцу боль. Зачем же так медлить, упрекнул он себя и припомнил, как Mutti бранила его за робость и сравнивала со страусом, который прячет голову в песок, воображая, что он теперь в безопасности. Он обижался. «Also, wird also, — говорила она и ерошила рукой его коротко стриженные волосы, — der Junge Mann, und der Mann soil tapfer sein».[137] И запах ее руки возьмет он с собой — земляничного мыла, корицы, только что отглаженного белья, чудесный запах невыразимо близкого, домашнего, родного, от чего принималось сладко ныть сердце. Завтра же к Андрею Ивановичу Полю, и будь что будет. От принятого и на сию пору имеющего вид бесповоротного решения ему стало как будто легче, он снова сел к столу и достал чистый лист бумаги. «Как я признан совершенно несостоятельным…» — заново написал он и, склонив голову, задумался. Нет, он был совсем не против, если бы его, подобно Лазарю, назвали нищим, ибо нищета, не обремененная завистью и злобой, есть благородное смирение человека перед Богом. Когда-то его дом, как говорят русские, был полная чаша, чему он не придавал, впрочем, никакого значения. И никто не вправе сейчас упрекнуть его в сожалении о капитале, без остатка вложенном в небесные амбары. Однако как противоречив бывает человек даже в самом своем сокровенном, не мог не признать Федор Петрович. Именно сейчас, перед вечным земным прощанием, Федору Петровичу так хотелось бы оставить милым своим родным хотя бы какую-то толику от когда-то им заработанного — оставить в знак его благодарной памяти, никогда не забывавшей о бесценной для него поддержке — и во все время долгой учебы и особенно в первое время жизни в Московии. В связи с этим он положил себе надеяться на Бога. Видящий все тайное, Господь склонит сердце царя, и царь призовет к себе кого следует и спросит: «А что наш Гааз? Неисправимый чудак и отменный лекарь? Дважды в Москве была холера, и он выступал против нее, как отважный воин, за что заслужил нашу благодарность. Наслышан я, что он приказал долго жить. Жаль старика. Как он распорядился оставленным состоянием?» Молчание последует в ответ. Государь нахмурится и уже с нетерпением повторит свой вопрос. Ему доложат: «Признан несостоятельным, хотя имеет в Германии родственников, ожидающих своей доли наследства, а в Москве — кредиторов, каковые, впрочем, готовы простить ему все долги». — «Вот как! — молвит государь, заметно расстроившись. — Некоторые пять лет послужат, и, глядишь, у него и дом, и выезд, и слуг не счесть, и три деревни в Калужской губернии. А этот чудак… не забуду, как он в Бутырском замке на коленях вымаливал у меня какого-то старообрядца… все роздал. Но мы ему возместим. Запиши: доктору Гаазу, царство ему небесное, пусть он и католик, тридцать тысяч рублей ассигнациями для удовлетворения кредиторов и умиротворения родственников. Душеприказчик у него есть?» — «Доктор Поль, ваше величество». — «Вот и пусть распоряжается».
Это все вполне, вполне возможно! В конце концов, государь на то и поставлен на царство, чтобы его усердным и добросовестным подданным не случилось ущерба — ни при жизни, ни после смерти. Воодушевленный этой мыслью, Федор Петрович указал, что от денег, которые могут быть по царской милости пожертвованы, надо отделить пятнадцать тысяч рублей ассигнациями, что он остался должен своим братьям и сестрам.
«Я часто удивлялся, — прибавил Федор Петрович с некоторым чувством вины, — что приобретая иногда деньги, имевши тогда практику, не израсходывая для себя особенно ничего, все находил себя без денег…» Он и сейчас удивленно пожал плечами, словно дивясь такому диковинному стечению обстоятельств, но тут же укоризненно улыбнулся. Все отдал — значит, все приобрел. Но как же громко бранила его однажды милая сестрица Вильгельмина, а он только разводил руками и умолял ее говорить тише. «Du sorgst weder über niemanden! — кричала она, и, ей-богу, ее было слышно и на дворе, где гуляли больные, и в Мало-Казенном переулке. — Noch über sich, über die Verwandten! Deine Häftlinge, bettelarm und krank — wessen magst du!»[138] Ax, моя милая. Нетрудно любить тех, кого уже любят. Куда трудней принять в свое сердце брошенного всеми человека.
Федор Петрович уже намеревался поставить последнюю точку, а чуть ниже — свою подпись, удостоверяющую его предсмертную волю. Но рука с пером застыла над бумагой, а он окинул две свои комнатки медленным взглядом, будто запоминая расположение вещей, икон, картин, задержал взгляд на часах, неустанно повторявших «как здесь, так и там», одобрительно им кивнул и затем словно впервые увидел любимую свою игрушку — телескоп. С вечера Федор Петрович забыл набросить на него черное покрывало, отчасти делавшее его похожим на коня, покрытого попоной, и теперь он глядел своим стеклянным, радужно переливающимся оком в темнеющее московское небо, на котором уже угадывались первые звезды. В августе, подумал Федор Петрович, начнется звездопад. И так вдруг горько стало ему, что никогда более не прильнет он к окуляру и не увидит роскошного бархата черного неба, по которому стремительно летят к земле ярко-оранжевые звезды, оставляя за собой вскоре исчезающие красные хвосты… Но ведь должен же он оставить кому-нибудь после себя эту радость, это тихое ликование от созерцания иных миров и бескрайних просторов, этот восторг перед премудростью Божественного мироздания!
Почти не раздумывая, он написал: «Телескоп мой завещаю Сергею Гаврилову, в твердой надежде на скорое его освобождение и счастливую и долгую его жизнь с милой супругой Ольгой, которую не имею чести знать, но о которой много слышал всяких добрых слов. А будут у них детки — пусть и они смотрят в небо, а я оттуда буду посылать им сердечные приветы».
И последнее?
Да, последнее.
«Я просил священника нашей церкви Г. Эларова, чтобы похороны были на счет церкви, на одной паре лошадей без всякого прибавления».