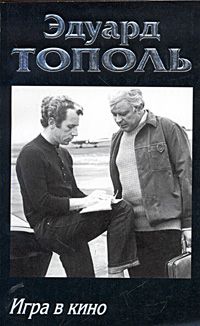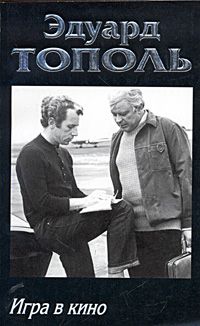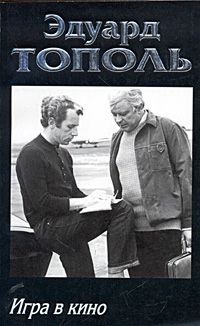Вечер. Автопункт. Три рубленых дома, построенных для отдыха водителей на обочине зимника, золотят в вечернюю таежную темень квадраты своих освещенных окон. Здесь столовая с круглосуточно горячими блинами, две спальные комнаты, душевая. Во дворе сгрудились почти два десятка грузовиков. От машины к машине ходит прогревальщик, следит за моторами — моторы не выключены, чтоб не заморозить, и из выхлопных труб курится легкий дымок.
В душевой моются шоферы. Гурьянов намылился весь — после целого дня дороги приятно. Рядом под душем тоже какой-то шофер.
— Эй, друг, — говорит он Гурьянову.
— Ты мне? — спрашивает Митя, жмурясь от мыла.
— Тебе. Как кличут? — Дмитрием. — Дмитрий чеевич?
— Петрович.
— А ктоеевич?
— Как это? — Гурьянов открыл один глаз, посмотрел на соседа. Соседом был Полин «жених» Степан Прокофьевич.
— Ну, кто ты есть? — в упор спросил он.
Гурьянов понял, что назревает нечто, но сказал с полувызовом и в то же время примирительно:
— Ладно, дядя, мойся.
«Дядя» смерил взглядом Митину фигуру — Гурьянов был ему явно не по силам.
— Добро, — сказал он недобро. — Только ты уж не обижайся, если что. Должок с тебя за любовь.
Ночь. Луны нет, и мороз за сорок пять. Тьма навалилась на припорошенную снегом лесотундру и заледенелый зимник. Машина Гурьянова щупает фарами дорогу — узкую, скользкую. Далеко впереди еле видны задние фонари какого-то «МАЗа», а позади — темень, пусто.
Гурьянов ведет свою полуторку осторожно — дорогу переметает поземка.
Изредка мелькнет за боковыми стеклами кабины приставшая к обочине машина с погашенными огнями и невыключенным мотором, где сморенный усталостью водитель прикорнул дрему передремать, и снова — пусто на трассе, одиноко.
Полуторка взбирается на узкий мостик через замерзшую речушку, и вдруг мимо, обгоняя Гурьянова, на огромной скорости проносится «татра», в последнюю долю секунды виляет бортом, бьет им по передку гурьяновской машины, и Митина полуторка летит с мостика, переворачивается в воздухе и — чудом — становится на колеса.
А «татра» пропала в темноте, как не было.
Гурьянов посидел в кабине, а когда утихло сердце — ощупал себя. Ничего, цел, даже голову не зашиб. Прислушался — мотор заглох, ночь, тишина. Попробовал завести — нет, не заводится. Выбрался из кабины — снег выше колена, а под радиатором лужа. И мороз тут же схватывает. Сзади зимник пуст, ни огонька, а впереди тают в темноте огоньки удирающей машины. Мороз уже щиплет вспотевшее лицо.
Гурьянов медленно утерся шапкой, будто стирая маску бессилия и злости. От холода передернул плечами, сунул руки в карманы полушубка, там было что-то, он вытащил, поглядел — Полины варежки. Он зло швырнул их в сторону, за сугроб. Потом забрался в кабину, включил фары. Ветер переметал капот снегом, Митя включил «дворники», смотрел в ночь. Но никто не ехал по зимнику. На панели управления белозубо смеялась переводная красотка. Только сейчас он заметил, как она похожа на Люську. Тогда, на веранде черноморской шашлычной, Люся головой заслоняла солнце, и волосы ее радужно вспыхивали в лучах, как нимб. А на учебном полигоне школы собаководства нападали на Гурьянова щенки, и он, как мальчишка, возился с ними, падал, раскинув руки в траве, рычал и был счастлив от сознания всесилия в этом мире… А потом затрещали над головой кроны отцовского заповедника, прохватило откуда-то ветром, и к Гурьянову вышел из леса тонконогий лось, шершавыми губами взял за ухо и стал шептать что-то неразборчивое. Сначала приятно было, как он ухо жевал, а потом больно стало, и Митя проснулся.
Солнце ударило по глазам.
Над Гурьяновым стоял какой-то проезжавший мимо грузин-водитель, растирал ему уши. Увидел, что Митя открыл глаза, и сказал:
— Ну, ты даешь! Полчаса оттираю. Встать можешь?
На мостике через замерзшую речушку гудела невыключенным мотором «АТЛка» — легкий гусеничный вездеход.
— Ты как сюда упал, слушай? — сказал грузин.
Гурьянов ушел от ответа.
— Да так. Случайно.
При морозах ниже 50 градусов рабочие дни актируются, а рабочие шландают от безделья, томятся. Заиндевелый и крохотный, передвижной поселок трубоукладчиков, состоящий из вагончиков-«балков», курился в небо тонкими дымками, а в низком небе над ним, поодаль где-то, за речкой зачиналось северное сияние.
Но никто на него не глядел и не ахал — привыкли.
В балке на табурете сидел над ведром свеженаловленного муксуна оспатый парень, сноровисто орудовал ножом, очищая рыбу для ухи, и балагурил при этом, как всегда.
— Чё ты говоришь? Чё ты муть говоришь? — обращался он не то к взрывнику Фадеичу, не то к бригадиру. — У меня лично кореш с Камчатки восемь кусков привез, сам, понял? Мы с ним в ГУМ с одного конца как шаромыги вошли, с другого — как артисты вышли. Бабы от нас падали — шпалерами! Ну, не шпалерами, но, в общем, — были!
Взрывник Фадеич сидел напротив оспатого на нарах, подбирал на баяне «Бухенвальдский набат».
Гурьянов безучастно лежал на своей койке, но когда Фадеич в пятый раз взял не ту ноту, не выдержал:
— Слушай, шел бы ты со своим набатом!
— А выходной, имею право, — сказал Фадеич.
Митя отвернулся и под музыку уснул. А проснулся от непривычной тишины. Открыл глаза и сам себе не поверил — напротив него за столом сидел Полин «жених» Степан Прокофьевич. На столе перед ним — бутылка и два стакана. Оспатого нет, бригадира и Фадеича тоже.
Митя встретился со Степаном Прокофьевичем взглядом, злость налила кулаки, шея набычилась, и Гурьянов стал медленно подниматься. А Степан Прокофьевич ждал. Спокойно сидел и ждал, когда Гурьянов его ударит. И от этого его спокойствия Митя дальше койки не поднялся. Уже ногами в пол уперся, чтоб встать, но не встал.
— Ну вот, — сказал Степан Прокофьевич, увидев, как обмяк Гурьянов. — Теперь погутарим… — И разлил по стаканам. — Конечно, убить я тебя мог, было такое желание. За это я в твоей власти, как этот стакан. Хочешь — пей, хочешь — бей, хочешь — под суд отдай. Только скажи — ты живой остался? А зачем теперь девку изводишь? Она ж хлеб не ест — ждет тебя, месяц уже. Ну?
— Не ваше дело.
— Как это? Тут все мое. Матрац, на котором спишь, и тот я привез, по зимнику. А Полина… Или ты меня боишься?
— Еще чего! — Митя глянул на него как мог презрительней.
— Слушай, а может, ты просто так с ней?
— А хоть бы и так — так что?
— Да подожди, — терпеливо сказал Степан Прокофьевич. — Я ж к тебе по-доброму пришел. Она ж тебя правда ждет.
— Ну и что? — назло ему усмехнулся Гурьянов. — Может, ты нас еще сватать будешь? Так зря.
Степан Прокофьевич поставил стакан. Встал. Горькими глазами поглядел на Гурьянова (вот каким оказался тот, из-за которого Полина «хлеб не ест»), пожевал губами, произнес грустно:
— Эх ты! Разве можно так с людьми, друг? Она ж любит тебя, а ты… Скотина ты! — И пошел к двери.
— Что-о? — рванулся за ним Гурьянов. Но тот повернулся и горькими глазами своими остановил.
— Остынь. Чего уж тут? Ты ж сюда шабашить приехал. Ну и шабашь. А людей не трогай больше, понял?
И снова была работа — взрывали тундровый диабаз, корчевали тайгу, стелили лежневки трубоукладчикам, получали зарплату, слушали передачи «Юности» для строителей Заполярья и опять корчевали тайгу, стелили лежневки в болотах, гнали нитку нефте- и газопровода.
В Полином магазине было пусто — ни покупателей, ни продавщицы. Гурьянов огляделся. Из кладовой был слышен шум передвигаемых ящиков.
Он снял гирьку с весов, прокашлялся.
Полина вышла из кладовой, вздрогнула от неожиданности и замерла, глядя ему в глаза.
— Здравствуй, что ли? — улыбнулся он с грубоватой неловкостью.
— Здравствуй, Митя, — тихо ответила, еле слышно.
— Я это… я тут за взрывчаткой снова… Что бы мне Феньке подарить? Ну, то есть Алене. Я у них на свадьбе не был. Как думаешь, что взять им?
Полина с секунду помедлила, не отрывая взгляда от его глаз, а потом — суетливо, первое, что пришло в голову:
— Может, утюг? Они хорошо живут, «балок» им дали отдельный, вагончик. Ты был у них? Или бра вот. Зеркало у меня еще есть, можно зеркало… — А сама тает вся, будто оплывает внутри и будто не она эти беглые слова говорит, а кто-то другой шевелит ее губами. От ее глаз, в которых все читалось, Гурьянову даже неловко стало.
— Скажешь еще, зеркало! Ты б себе что купила?
— Я? Себе? Вот платок можно, он теплый и Аленке подойдет, у нее глаза голубые.
— Два давай. Один — тебе, у тебя тоже голубые. Я это… я зайду вечером. Или нельзя уже?
— Зачем ты так, Митя?
Аленка разлила борщ по тарелкам, подала мужчинам, сказала Гурьянову:
— Вы кушайте, кушайте, вы же с дороги.
В Фенькином вагончике-«балке», во всей его нехитрой обстановке и мебели — от вышитых накидок на кровати до нового проигрывателя на резной этажерке — была та атмосфера уюта и заботливых женских рук, про которую быльем забыл Дмитрий Гурьянов.