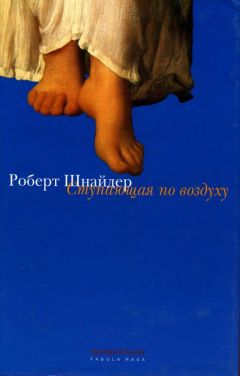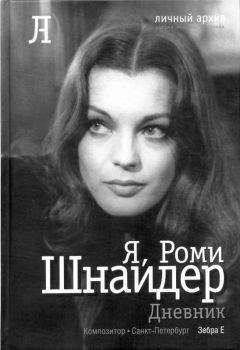Потом возникнет вопрос о том, есть ли в жизни вообще хоть какой-то смысл. И тогда, возможно, какая-нибудь Марго Мангольд снова пойдет на откровенный разговор со своим ребенком.
Никакого, скажет она с холодной прямотой любящего человека. И это-де самое страшное, но и самое бесценное и великое из всего, что дано нам. И она не будет отнимать эту свободу у своей мерзавочки.
Почему все они на меня уставились? — недоумевала Эстер Ромбах. Она открыла свою расшитую жемчугом сумочку, достала косметическое зеркальце и осмотрела подведенные помадой губы. Никакой погрешности в макияже и экипировке она не приметила, тени для глаз были водостойкими и не потекли даже когда, стоя под проливным дождем она пыталась поймать такси. Эстер чуть припудрила нос, так как ей показалось, что в одном месте он чересчур отсвечивает. Она щелкнула сумочкой и почувствовала, что ее все еще рассматривают. На уме было одно: только бы не пропустить остановку «Лексингтон авеню — угол 68-й улицы»! Она еще раз мысленно перебрала остановки. Ей выходить через одну. Эстер встала и направилась к дверям вагона. Поезд метро грохотал по рельсам со скоростью подрумяненного ветерана подземки.
Манхэттен выглядел таким, каким его показывали в кино и по телевидению. В этом самом смысле Берн только еще предстоит открыть, размышляла Эстер. Там иностранцам дается трехгодичный срок, чтобы добиться доверия. Иное дело Манхэттен. Или же нет?
Взгляды становились ей в тягость. Эстер поправила, вернее потрогала свою цилиндрическую шляпу, скрестила руки, как бы защищаясь от взглядов. Отражать их помогало и тяжелое, чуть не до пят длиной, каракулевое пальто.
Нет, особого впечатления на нее этот город не произвел. Может быть, из-за непрерывного дождя. Во всяком случае, у нее не было такого чувства, что здесь пуп планеты, и у нее не хватало аппетита даже надкусить Big Apple[41]. Но ей хотелось непременно увидеть Дворец иммигрантов на Элис-Айленде. И еще она охотно побывала бы на Гранд арми плаца во время праздника, именуемого Ханука, когда ежевечерне в течение восьми дней зажигается гигантский семисвечник. Но на дворе, к сожалению, был февраль.
Она вышла из метро и поначалу двинулась не в том направлении. Свою ошибку заметила уже на 66-й улице. Эстер повернула назад и вскоре оказалась у дома, адрес которого ей несколько лет назад дал старик из Цюриха, бывший прокурист квайдтовской фирмы. Розовый клочок бумаги с этим адресом она сейчас сжимала в ладони. И у Эстер сильно забилось сердце.
А здесь довольно мило, подумала она, почти как дома. Дом № 12 оказался пятиэтажным зданием с тремя окнами на каждом ярусе. Окна второго этажа венчал особый белый карниз, напоминавший фронтон римского храма. В этом было даже какое-то изящество. Построенный из типичного для этой местности бурого кирпича, дом был окружен садиком, а садик окаймляла ровно постриженная живая изгородь из туй. Дом находился не на самой улице, а немного отстоял от нее. Чтобы добраться до дверей, пришлось спуститься по лесенке из двух ступенек, пересечь дворик с молодой липой и с тремя ступеньками в правом углу, у входа в дом.
И вот она стояла перед дверью, за которой жил Энгельберт Квайдт, и сердце ее стучало так громко, что она стала опасаться обморока. Дождь продолжал лить. У нее просто не хватило духу нажать латунную кнопку звонка, и она поспешно отошла, почти отскочила от двери. Ей хотелось успокоиться, и она решила пройтись вокруг квартала. Это было рядом с Центральным парком, Эстер быстро миновала 5-ю авеню, вошла в парк, укрылась от дождя под густым кленом и выкурила три сигареты.
Ей вдруг вспомнилась сестра Ри, которая много лет назад на чердаке Красной виллы вложила ей в сердце Энгельберта Квайдта. И Эстер совсем погрустнела.
— О, Мауди. Что с тобой стало? Никак не удержаться от повторения старых ошибок. Ты всегда это говорила.
И тут в голове мелькнула другая мысль:
«Я же ничего не привезла Энгельберту», — ужаснулась она.
Она отправилась обратно. На перекрестке 70-й улицы и Лексингтон-авеню она заприметила цветочный магазинчик. Эстер купила три не очень яркие красные розы. И хотя итальянка-продавщица порывалась обрядить их папоротниковым убором, Эстер отвергла какие бы то ни были декоративные дополнения. Она вышла на улицу. Взгляд скользнул по окнам итальянского ресторана, который назывался «Луми». Прекрасная возможность немного оттянуть встречу с истиной. Кроме того, она чувствовала голод, хотя отнюдь не была голодна. Эстер через стекло посмотрела в зал. За столиками сидели главным образом пожилые господа. В глубине помещения находился длинный банкетный стол. Там тоже трапезничали люди почтенного возраста. Седовласые мужчины и женщины. На лицах — выражение торжественной значительности. Должно быть, отмечали какой-то праздник.
Эстер было взялась за ручку, но тут же выпустила ее, она заставила себя мобилизовать всю волю и встретиться наконец с Энгельбертом Квайдтом. Мысль о том, что он, возможно, уже умер или живет где-то в другом месте, она мгновенно отгоняла.
Девочка лет двенадцати открыла тяжелую деревянную дверь с меандрическим орнаментом. Девочка усмехнулась, Эстер тоже. Позднее она поняла, что это была не ухмылка, что в силу врожденных особенностей лицевых мышц девочка всегда имела такую гримасу и на самом деле лицо ее оставалось неподвижным.
— Нельзя ли поговорить с мистером Энгельбертом Квайдтом? — с улыбкой спросила Эстер. Девочка ухмылялась. Эстер повторила вопрос. Ответа не последовало. И вдруг девочка повернулась и ушла. Коридор был заставлен ящиками и коробками. Сильно пахло кухней. Через минуту-другую к Эстер вышла женщина примерно ее возраста, одетая в зеленый спортивный костюм из блестящей ткани. Эстер поздоровалась и повторила свою просьбу. Женщина оказалась очень любезной и сообщила, что мистер Квайд неделю назад съехал отсюда. Но полчаса назад был здесь, передавал ключи. У Эстер ноги подкосились при мысли, что она разминулась с Энгельбертом на каких-то тридцать минут.
Где он живет теперь?
Этого она не знает, отвечала американка. Она сказала это так, что Эстер не могла не поверить ей. Женщина попыталась улыбнуться, сверкнула белоснежными зубами. Но улыбка мгновенно стерлась, едва хозяйка заметила, как погасли глаза у этой так старомодно одетой рыжей незнакомки. Она даже немного проводила ее, перевела через площадь и все сокрушалась о том, что мистер Квайд даже не просил о пересылке почты. Она бы рада помочь и в дальнейшем, надо бы узнать адрес на случай, если… Но Эстер едва слышно поблагодарила ее, раскрыла зонтик и поплелась своей дорогой.
Ей было холодно, она решила немного согреться в «Луми». Она даже как-то и не печалилась. Разве что чуть пригорюнилась. Не так уж страшно.
— Иначе было бы чересчур прекрасно, — сказала она себе.
В «Луми» она заказала овощной суп и бутерброд с ветчиной. Она спокойно разделывалась с едой и вновь была удивлена тем, что люди так бесцеремонно таращатся на нее. Что она, монстр, что ли? Или прокаженная?
Те, что сидели за банкетным столом, просто пожирали ее глазами. Какой-то седой человек с узкими губами прямо-таки впился в нее взглядом.
— Хуже, чем у нас! — буркнула Эстер Ромбах, она откинула назад свои рыжие волосы и до конца опустошила тарелку с супом.
Эстер расплатилась, взяла свои розы, вышла из ресторана и не спеша направилась к станции метро. В ожидании поезда она присела на скамью. Рядом блевала алкоголичка. Какой-то элегантный пожилой джентльмен отвернулся и поспешил спуститься на нижнюю сторону платформы. В памяти зримо запечатлелся момент, когда седовласый мужчина прожег ее глазами. И тут у Эстер Ромбах заледенели руки, но кожа покрылась потом, а не мурашками. Эстер закричала, такого крика она не издавала никогда в жизни:
— ЭНГЕЛЬБЕРТ!!!
У нее вылезали из орбит глаза и выворачивались губы, она бросилась наверх, на улицу, побежала в сторону «Луми». Поскользнулась, упала, изодрав руки о шипы роз, но тут же вскочила на ноги и рванула дверь.
Он смотрел на нее. И теперь она узнала его. Высокий лоб, крутые изгибы бровей, тяжелые веки, необычайно глубоко посаженные глаза, та самая покоряюще прекрасная вмятинка над верхней губой, крохотная тень углубления. Эстер стояла, дыхание обжигало ноздри. И Энгельберт не отрываясь смотрел на нее. Он увидел ее раньше, чем она его. Узнал в первый же миг. В мгновение ока. С лету. Она. Его глаза ударили залпом и разом постигли человека в его полном, серафическом образе. В этом человеке не было ничего чужого, ничего незнакомого. Он вечно с тобой. Вечно свой. Вечно любимый.
Памяти святого человека с голубых заснеженных гор Арльберга — Эрнста Риттера, без душевного участия которого не сложилась бы ни единая строка этой книги. Памяти чудесной Эдит Кауффманн, поддерживавшей меня из последних сил. Моим друзьям, к советам которых я не прислушивался, ибо должен был оставаться глух, чтобы слышать самого себя. Памяти моего ушедшего ангела — Паскаль, памяти на все времена.