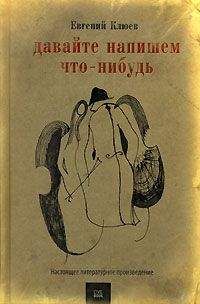Правда, на «вообще» банковские воротилы плевали, время от времени забираясь специально для этого на ту самую колокольню – одну из тех, что в изобилии украшали страну. Колокольня – понятно почему? – получила красивое, как всё в Швейцарии, название «Поплавок». Постепенно колокольня «Поплавок» стала излюбленным местом сборов банковских воротил и своего рода ставкой: именно здесь принимались важнейшие решения, и даже в настоящий момент банковские воротилы сидели в «Поплавке». У подножия «Поплавка» барахталась в слюне небольшая демонстрация, прознавшая о документе под названием «Недоброе» из грязной бульварной прессы и выражавшая свой протест посредством отказа принимать горячую пищу. Всего каких-нибудь шагах в двадцати от демонстрации стояли работники швейцарского общепита с судками и сковородами наготове: в судках дымились крепкие бульоны, клокотали наваристые супы, булькали овощные пюре и рагу, со сковородок прыгали во все стороны плотные бифштексы, на противнях шипели, как змеи, сочные сосиски и бились лбами сытные отбивные… Сами же работники швейцарского общепита уже охрипли от призывов в адрес демонстрантов принять горячую пищу, но слышали в ответ упорное: «Мы отказываемся, ни за что не примем!» – и с ужасом наблюдали за тем, как демонстранты демонстративно же пожирают холодные закуски – причем в изобилии.
Когда терпение работников швейцарского общепита истощилось окончательно, вдали показались Редингот и Марта. «Ну, слава Богу!» – вздохнули работники швейцарского общепита и сложили с себя полномочия, побросав и вылив горячую пищу прямо здесь же у «Поплавка».
– Демонстрируем? – сухо спросил Редингот, подойдя к демонстрантам, и покачал головой: – На большее-то ума не хватает?
– Да ума у нас и вовсе нет! – тут же признались демонстранты. – Одна только совесть… как и у всех демонстрантов.
– Кто ж вас за язык-то тянет! – сразу разозлился Редингот. – Не с глазу на глаз ведь говорим!
Демонстранты удивленно огляделись, но никого не увидели.
– Вы же герои настоящего художественного произведения! – Редингот покачал головой и оставил их совершенно ошарашенными, поскольку сам, схватив Марту за руку, тут же взмыл в воздух и опустился на крышу «Поплавка». К полетам таким, смею надеяться и надеюсь, читатель давно уже привык, как к соблюдению правил личной гигиены.
– Ну, банковские воротилы, – напрямую обратился к банковским воротилам Редингот, – здравствуйте.
Банковские воротилы не поздоровались с Рединготом, а наоборот – умышленно отвернулись в другую сторону. Перейдя на ту сторону, Редингот вступил-таки с банковскими воротилами в зрительный контакт – те засмущались и заперебирали бумаги на столе. Но даже несмотря на их крайнее смущение, было видно, что они ненавидят Редингота.
– Я знаю, что вы тут взрыв готовите, – с умеренной беспощадностью продолжил Редингот. – Знаю и то, что все Вы подписались под документом, носящим название «Недоброе».
– Откуда Вы это знаете? – изумились банковские воротилы.
– У меня сердце-вещун, – открыл тайну Редингот, показывая на грудь, где сердце-вещун громко, как репродуктор из времен войны, вещало человеческим голосом.
Банковские воротилы прислушались и сказали:
– Да, от такого сердца ничего не скроешь…
Тут они принялись хором признаваться в том, что материальные ценности для них гораздо важнее духовных. Редингот с грустью смотрел на банковских воротил, время от времени переводя глаза на Марту, которая плакала, слушая их. Предпочтение материальных ценностей всегда действовало на нее крайне удручающе.
– Неужели вы, – сквозь слезы проговорила она, – если вам предложат выбрать между тысячей швейцарских франков и романом Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», выберете тысячу швейцарских франков?
– Увы… – ответил за всех номер 143. – Мы так низки, что схватили бы со стола тысячу швейцарских франков, а на роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» стали бы даже… – (тут он густо, как шевелюра, покраснел) – …плевать.
– Плевать?.. Неужели я Вас правильно поняла – плевать? Даже на ту сцену, где Анна Каренина тайно встречается после долгой разлуки со своим сыном Сережей? – Слезы в три ручья лились по щекам Марты.
– Боюсь, что на нее мы бы стали плевать особенно сильно, – брезгливо оглядев сотоварищей, признался номер 143.
– А если взять великие стихи? – не унималась Марта. – Например, «Незнакомку» Александра Александровича Блока… – на нее вы бы тоже плевали, если бы вам нужно было выбирать между бессмертным творением гения и тысячей швейцарских франков?
– Плевали бы, да еще как! – пряча глаза в бумажник, продолжал номер 143. – Даже не только плевали бы, но еще и глумились бы над их автором, называя Александра Александровича Блока, великого русского пиита, засранцем!
– Ну, это уж слишком! – возмутилась Марта и огрела говорящего по голове захваченным ею снизу судком с украинским борщом.
– А при чем тут я? – не понял номер 143. – Мы тут все такие!
– Не верю! – воскликнула Марта. – Вот… Вы только послушайте:
По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух…
– Неужели даже это ничего не говорит вашим черствым душам?
Банковские воротилы посовещались, после чего номер 87 сказал:
– Увы, даже это нашим черствым душам ничего не говорит… Мы не чувствуем прелести гениальных строк Александра Александровича, не понимаем заложенной в них глубокой мысли. Естественная живость четырехстопного ямба с двумя пиррихиями в первом, одним в третьем и одним в четвертом стихе ускользает от нашего внимания. А уж такие вещи, как смелость перекрестной дактилической рифмы, обнимающей первый и третий стихи, нам в принципе неведомы… Мы вот сейчас обсудили между собой этот чарующий многих катрен и видим, что способны понять его лишь на поверхностном уровне. Спросите любого из нас – сами убедитесь!
Марта обвела печальным взглядом банковских воротил и, указав на номер 94, спросила:
– Что значит, по-вашему, горячий воздух?
Тот усмехнулся и горько вздохнул:
– Вы не поверите… – сказал он, – но метафоризированный эпитет «горячий» я вообще не способен оценить адекватно. Так что глубокая оригинальность словосочетания «горячий воздух» пропадает для меня без следа. Я воспринимаю словосочетание «горячий воздух» только и исключительно в качестве указания на температурное явление – от плюс тридцати градусов в тени и выше… Такой вот я болван.
– И Вы даже не допускаете, что это послезакатный воздух, нагретый нетрезвым дыханием посетителей кабаков и жаркими испарениями несытой человеческой плоти? – обалдела Марта.
– Не допускаю… – обреченно покачал головой номер 94. – Плюс тридцать градусов в тени – и баста!
Марта, проглотив комок (снега, услужливо брошенный кем-то снизу), с ужасом произнесла:
– Боже! Какой кретинизм… Остальные тоже не допускают?
Молчание было ей ответом.
– Так… – отнеслась она. – А следующее четверостишие:
Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной
И раздается детский плач…
– Подумайте, разве оно не прекрасно?
Банковские воротилы покачали головами и сказали в один голос:
– Нет, тысяча швейцарских франков для нас прекраснее, чем все это, вместе взятое.
– И детский плач? – Марта в упор взглянула на банковских воротил. – Он тоже для вас ничего не значит?
– Можно по заднице надавать по толстой, – вяло предложил номер 6.
Марта потерла виски и призналась:
– Я не устаю удивляться вам, банковские воротилы.
– Это потому что Вы выносливая! Выносливые долго не устают, – объяснили те.
– Хорошо… тогда вот:
… и веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука…
– Что вы теперь скажете?
После минутного молчания номер 17 сказал:
– Мне представляется одна женщина…
– Наконец-то! – возликовала Марта. – Она… эта женщина, притягательна для Вас?
– Для меня все женщины притягательны, – смутился тот. – Я бабник.
Марта вздохнула и заломила ему руки. Номер 17 жалобно вскрикнул.
– Я имею в виду духовно! – жестко уточнила Марта. – Притягательна ли она для Вас духовно – не как объект низкого вожделения, а как образ?
– Образ… кого? – растерялся номер 17.
– Вечной Жены! – почти уже кричала Марта.
Номер 17 посмотрел на нее с ужасом:
– Вечной Жены? – На лбу его выступила испарина. – Да никогда, Вы что – с ума сошли, девушка? – Он помолчал и внезапно спросил: – Вы когда-нибудь состояли в браке?