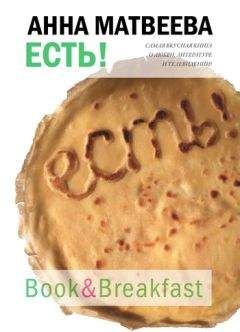– Пошли скорее, – шептал мой третьеклассник, утягивая меня за руку в сторону раздевалки, но я не могла не вмешаться. Есть у меня такая особенность – не умею спокойно смотреть, как обижают беззащитных.
– Эй! – вежливо обратилась я к атаманше, которая лихо вытерла нос кружевным воротничком. – Чем он так провинился?
– Ничем, – сказала дерзкая девчонка. – Просто это Ляхов. Не понимаете, что ли?
У просто Ляхова в этот момент закончилось терпение – из глаз мальчишки полились такие огромные слезы, каких не бывает у взрослых людей.
– Вера Петровна идет! – закричала одна из девочек, и все они тут же растворились в пространстве.
В закуте действительно появлялась та самая завучиха из коридора, которая давеча вжала меня в стену, – причем появлялась она по частям, как бес. Вначале мы услышали дробный рокот каблуков. Затем нас накрыл с головой тошнотворно-ванильный дух туалетной воды (я готова была поверить, что это и в самом деле вода из туалета). И наконец мы увидели саму Веру Петровну, надменной валькирией спустившуюся в грешный мир.
– Так-так. – Завуч неодобрительно глянула в мою сторону. – Опять 3-й «В». Бесчинствуем, да, Ляхов?
– Он не… – вякнула было я, но Ляхов поднял на меня темно-синие глаза, и я увидела в них просьбу: «Замолчи». Говорить было бесполезно.
Вера Петровна потребовала дневник, и Ляхов молча достал его из растерзанного портфеля. Я увидела этот дневник – с собачкой на обложке – и мельком яркий пенал, увидела веселые тетрадки, которые придуманы для мифических детей из телерекламы, не имеющих ничего общего с реальным детством. Я представила, как мама Ляхова покупала все эти милые канцелярские вещички для сына, как она складывала их в оскверненный теперь портфель, и мне стало больно, будто это меня пинала в живот злобная стая девчонок.
– Ненавижу девочек, – сказал мне мальчик на выходе из школы. – Они очень больно дерутся.
На выходе из школы компания девиц постарше мутузила одноклассницу, а какие-то парни весело снимали происходящее на телефон. Мутузили девчонку как бы в шутку, но по ходу дела увлеклись.
– Что здесь происходит? – возмутилась какая-то родительница, а я сказала мальчику:
– Пойдем побыстрее к машине. Так хочется вернуться в знакомый комфортный мир взрослых людей.
Может, именно в тот день я впервые подумала, что никогда не буду рожать?
Я и сейчас думаю, что дети – самая уязвимая наша часть, беспощадно отсеченная, отдельная от нас. Наверное, это невыносимо, когда твоему ребенку делают больно, – я вот, например, просто не готова взять на себя такую боль. И все эти умилительные пеналы, купленные мамой, все эти смешные попытки пап разобраться с обидчиками сына – все это кажется мне таким диким и жалким, жалким и диким…
Я не хотела рожать девочку, потому что боялась, что она станет такой же, как я.
И я не хотела рожать мальчика, потому что мне было бы страшно за него: ведь я знала, как больно умеют делать девочки.
Я-то понимаю, как это больно – жить.
Девочки и драки – да, читатель, здесь каждому найдется что вспомнить! Девочки растут, правила меняются, на смену пинкам и обзывалкам приходят самые настоящие дуэли. В основном из-за мальчиков, но порой – во имя принципов и тщеславия ради. Маркиза де Нель дралась на дуэли с графиней де Полиньяк, потому что обе (Неля и Полина) хотели получить одного мужчину – будущего герцога Ришелье.
А две аспирантки, с которыми я случайно попала в компанию, сражались при помощи знаний и талантов. Точнее, сражалась одна – некрасивая брюнетка с кривым ртом и потрясающей выносливостью печени: она могла пить днем вино, вечером водку, а утром как ни в чем не бывало шла на работу, свежая и бодрая, что твой первоклассник.
Соперница брюнетки даже и не подозревала о том, что она – соперница, все мирно сидели за столом, и разговор, я помню, шел про Англию и ее гостиницы.
– Ужасные у них гостиницы! Ужасные! – причитала некая барышня, для пущей убедительности закатывая глаза, что смотрелось почти неприлично. – Мы взяли «четыре звездочки» и сталкивались в номере лбами. И кормили ужасно, ужасно!
– Милая, – остановил барышню ее спутник, державшийся терпеливо и снисходительно, как наставник трудного ребенка, – я уже объяснял тебе – держава завоевала полмира именно потому, что пренебрегала бытом и изнеженностями!
– Пока все прочие сидели в биде, британцы шагали по планете, – хохотнул хозяин дома и процитировал уместный случаю стих.
Криворотая гостья, которая до того времени вполне индифферентно ковырялась в тарелке – словно выискивая сокровища между пирамидками салатов, встрепенулась и даже, мне показалось, приподняла правое ухо:
– Откуда это?
Хозяин и все мы не сразу поняли, к чему вопрос.
– Это? Ах, стихотворение? Сочинение Эммочки.
– Грешила в юные годы, – басом сказала Эммочка, не помню хоть убейте, как она выглядела, но бас слышу отчетливо. – Было дело.
Вдруг над всеми пролилась туча, до отказа набитая Эммочкиными стихами юных лет. Наверное, Эммочка лепила их ловко и быстро, как моя ба Ксеня фрикадельки, и, пусть не было в ее стихах ни глубины, ни высоты, непостижимым образом они оседали в памяти. Присутствующие выкрикивали с мест отдельные строки, Эммочка благодарно краснела.
Только я и криворотая ничего не выкрикивали – я просто не знала прежде Эммочку с ее творчеством, а у брюнетки была совсем другая причина.
– Я на минутку, – бросила она и вышла.
Вышла и вышла – может, в туалет захотелось человеку. Или нервно покурить на балконе – имеет право!
Стихи, как мороз, крепчали. Следом за Эммочкой народ начал читать кто Бодлера, кто Пастернака. Я сразу вспомнила свою знакомую Агнессу – когда она еще позволяла себе спиртной отдых, то всегда предупреждала окружающих:
– Бойтесь меня пьяную! Сигналом станут стихи: когда вы услышите строчки «Ты совсем, ты совсем снеговая, как ты странно и страшно бледна!», мне больше не наливать!
Мне от стихотворного изобилия всегда делается дурно. У меня был в настойчивых приятелях газетный мужчина – а у него, в свою очередь, была привычка мучить всех своими и чужими стихами, так что люди дергались, как под пытками.
И тогда, в гостях, заслышав очередное «Рубенс, море забвенья, бродилище плоти…» (покарай, Господи, разбогатевшую интеллигенцию!), я вышла следом за криворотой брюнеткой в прихожую, где она натягивала сапоги. После чего, загадочно улыбнувшись, закрыла за собой дверь.
Я думала, что брюнетка ушла восвояси, отравившись чужим успехом, но она всего лишь отправилась за дуэльным оружием. Через полчаса у подъезда взвизгнуло, притормозив, такси – дуэлянтка вернулась. Она шла к месту сражения, прижимая к груди толстую пачку стихов.
Она уезжала домой за стихами – собственного приготовления, а теперь готовилась вывалить их на гостей и посрамить Эммочку.
Я не буду подробно рассказывать о стихах дуэлянтки – достаточно упомянуть, что они были такими же кривыми, как ее рот. Эммочкины «фрикадельки» легко жевались и глотались, а брюнеткины вирши застревали в зубах и очень долго не могли перевариться. Но это была дуэль – настоящая женская битва, в которую Эммочка тоже в конце концов была вынуждена вступить, а потом уползала, раненная сразу и в душу, и в сердце, и в область самолюбия.
Вы верно все поняли, читатель, – я прячусь за воспоминаниями, ищу аналогии, размышляю о том, что было, лишь для того, чтобы не думать о том, что ждет меня завтра.
Я сижу в кресле самолета. Кресло вместе с самолетом и мной летит в Венецию. В последний момент П.Н. поддался на уговоры давнего спонсора Мары Михайловны и решил совместить нашу показательную дуэль с важным гастрофестивалем в Виченце. Я почти уверена, что спонсор Кирилл Сергеевич сделал ставку на Еку – очень уж плотоядно поглядывает он на меня из соседнего кресла. Так смотрят на еще не зажаренную, но уже ощипанную, приветливо раскинувшую жирненькие ножки цесарку.
Кирилл Сергеевич недавно похудел, и видно, как он этим отчаянно гордится. Прежде у него были румяные щеки, округлые, как у рубенсовских богинь, бедра и блестящий откормленный загривок. Сейчас – нет. Сейчас – тощие икры в узких джинсах, подростковая мятая рубашечка и лицо в глубоких злых складках. Увы, ошибаются те, кто думает, что худоба – из той же системы понятий, что молодость.
Я откидываю кресло, чтобы не видеть Кирилла Сергеевича, – теперь его заслоняет теплое дружеское плечо Ирак. Плечо укутано в вышитый мягкий палантин. Ирак делает вид, будто спит, но я знаю: она не спит, а в сотый раз прокручивает в голове новую роль секунданта.
Мы с Ирак поехали в Венецию за свой (точнее, за мой) счет – отказались от спонсорских сребреников Кирилла Сергеевича. В конце концов дуэль придумала я, и мне не важно, где будет сделан решающий выстрел. Венеция или, например, Пенчурка – в данном случае значения не имеет.