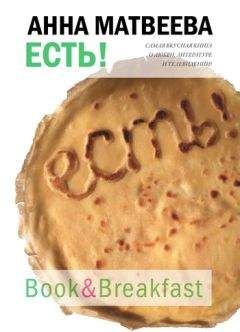Доктора Мертвецова почти не видно – он скрылся в море девиц чуть ли не по самую макушку. Ах, как завистливо глядит на него депутат Эрик Горликов – смотрите, он почти насквозь прокусил нижнюю губу, пытаясь привести себя в чувство! Но и у Горликова есть собственный наблюдатель – Игорь, он же Гермес Александрович, отзывающийся на кличку Саныч. Мечта Саныча – протоптать тропку в исполнительную власть, впрочем, он согласен даже на законодательную, лишь бы тропка не обманула и вывела прямиком к заветному креслу. Пока же под спиной и попой Гермеса – всего лишь неудобное и ребристое, как тощая любовница, кресло на колесиках, которые, впрочем, не желают крутиться, а значит, использовать их по назначению невозможно.
Куда удобнее устроились соседи Гермеса по этому уже неприлично растянувшемуся застолью. А ведь эти соседи с трудом размещаются в обычных условиях и форматах – Альфонсо спит на особой, под заказ сделанной кровати, Массимо как можно реже выходит из дома, Марио же и Джанлука, будучи вынуждены путешествовать, заказывают дополнительные кресла в самолете. Сейчас итальянцы из «Ла Белла Венеция» чувствуют себя на самой высокой отметке по шкале комфортности – всем братовьям нашлось место на длинной и высокой скамье, покрытой к тому же мягкими подушечками. Слышите, как благожелательно рокочет Альфонсо, как покряхтывает Массимо, как блаженствуют после бесконечной беготни Джанлука и Марио? Стоп, здесь даже, кажется, присутствует заветная матовая бутыль – Альфонсо приставил ее к скамейкиной ноге как еще одну дополнительную ногу. Или же как костыль для себя лично, если выражаться афористически.
Иностранную компанию дополняют (и в то же время оттеняют) европейцы-антиподы – рафинированные Фридхельм и Анке Вальтер. Соседей своих Вальтеры изучают терпеливо и благожелательно, как учитель каракули первоклассника. А вот родители режиссера Пушкина явно жалеют, что не обучены иностранным языкам, – у мамы на языке скопилось много ядовитых словечек по поводу неудачного соседства, но перевести их на немецкий возможности нет, и Пушкина ерзает на колченогом стуле без всякого шанса выговориться.
Вы, читатель, разумеется, давным-давно поняли, что за компания собралась сегодня за этим странным столом. Поняли, но терпеливо ждете, пока автор выговорится до конца – в отличие от мамы Аркадия Пушкина у него такая возможность имеется. Автор упомянет и щепку-критикессу, воспевающую в собственных сочинениях собственные золотистые волосы, и повара-дисквалификанта Градовского, и Еленочку с Лизой, и всех Екиных студентов, и яркую личность Агнессу, и Димочку с его мамой… Автор не забудет усадить Ирак в строгом географическом соответствии с Иран, познакомит Дода Колымажского с Гениной подругой детства Ленкой, представит, как обещал, стилиста Эмму Буркину и даже, возможно, временно оживит давно почивших героев – ба Ксеню и бабушку Клаву. Автору так хотелось собрать в устроенной для этой цели комнате всех второстепенных героев, что он не пожалел времени – и, может быть, лично стаскивал сюда места для сидения. Автор вспомнил даже про второстепенную кошку Шарлеманю, которая – видите? – подсовывает шерстяную голову под знакомую руку Дода – точь-в-точь так, как машина въезжает под привычный шлагбаум. Устоявшийся равномерный гул, который всегда сопровождает людей, собравшихся в одной точке и ожидающих начала или развязки зрелища, внезапно стих. Величественно покашливая, во главе стола встал во весь рост молодой человек, обладающий настолько располагающей внешностью, что присутствующим немедленно захотелось доверить ему свои жизни, с их тайнами, сложностями и пин-кодами. Дамы хором вздохнули, мужчины уважительно насупились, старушки пустили слезу.
– Кто это? – шепотом спросил у Дода Колымажского пышный мужчина в ромбовидном галстуке.
– Не знаю, наверное, тоже из второстепенных, – предположил Дод. – Но держится будто главный!
– Друзья! – обратился молодой человек к присутствующим, одарив особо зорким взглядом болтливого Дода.
Голос у оратора был также располагающим и, можно даже сказать, манящим. Завораживающий баритон, направленное звучание, верные интонации. Эльвина Куксенко, прищурившись, строила план осады, Щепка строчила в блокноте, одновременно взбивая золотистые волосы свободной рукой. Аделаида Бум слушала молодого человека, прикрыв глаза, – будто она не на конгрессе второстепенных героев, а на абонементном концерте в филармонии.
– Разрешите представиться – вы не обязаны меня знать или даже помнить. Валентин Оврагов из девятнадцатой главы второй части.
– Шпарит как по писаному, – хихикнула Берта Петровна на ухо Марине Карачаевой.
– Собраться здесь, точнее, собрать здесь всех вас – моя идея, – продолжал Валентин. – Я уверен, что каждый из вас, включая совсем проходных персонажей вроде нашего дорогого друга в ромбовидном галстуке или вас, госпожа критикесса, испытывает дискомфорт, если не сказать хуже. Давайте в самом деле скажем хуже – это даже не дискомфорт, а полное морально-нравственное неудовлетворение!
Оврагов посмотрел на аудиторию в поисках одобрения и тут же нашел поддержку со стороны юноши по фамилии П е кин: политиканствующий студент сидел, обняв за древко плакатик, будто это было не древко, а шея любимой девушки. Валентин заметил, что поле плаката пустое – Пекин не определился с новым жанром деятельности. Вот почему он так одобрительно кивал оратору: в сонных глазах его просыпались и жажда жизни, и жажда испортить жизнь ближнему.
Воспрявший Валентин гнул свое:
– У меня накопились колоссальные претензии к автору. Или к так называемым авторам, если их, как нам тут пытаются внушить, несколько.
Второстепенные зашумели – те, кто мог это сделать, скрипели стульями, те, кому досталась беззвучная мебель, выражали эмоции иначе. Вовочка ругалась сквозь зубы, а бодрая толстушка Мара Винтер явно готовилась отобрать у Валентина слово. Но Валентин не сдавался:
– Вам, Мара Михайловна хотя бы дали целую главу! И даже в других нет-нет да упомянут. Как Пушкина, Ирак, Иран, как всю вашу компанию. А меня словно и не было! Валентин-Валентин, потом раз – и выгнали прочь. И ни разу никто не вспомнил.
– Почему же, Валентин? – грудным голосом сказала мама Пушкина. – Я вас, например, очень прекрасно помню.
– О чем вообще речь? – возмутился депутат Эрик Горликов. – Молодой человек, кто вы такой? Здесь даже депутат удостоился лишь крайне непрезентабельного описания и полного забвения спустя пару глав.
Валентин Оврагов надул губы, как часто делают носители французского языка:
– Видите ли, гражданин депутат, у меня в этом романе был блестящий старт! Я должен был взмыть ввысь, как ракета, но меня обошел даже Пушкин!
Аркадий вскочил с места:
– Мне нравится это «даже»! Между прочим, мне тоже могли дать больше места и решить мою проблему с женой.
– А мне, – включилась Юля, – надоели чужие ногти!
– А я не могу найти себе порядочную домработницу!
Внезапно все герои начали выкрикивать с места и перебивать друг друга, как невоспитанные школьники. Вели они себя, скажем честно, совсем не по-геройски. Марина перекрикивала Берту, филологическая мама Владимира и Пушкин устроили агрессивную битву цитат, Аделаида Бум схватила Гениного папу за бороду, а девицы Мертвецова визжали, как стадо молочных поросят.
Даже итальянцы включились в общий гул и крик, хотя мы почти уверены: братья не понимали, что вообще здесь происходит. Им мешал языковой барьер – такой же прочный, как пресловутая скамейка под братскими попами.
– Ке ко́за е? Ко́за че? – басит Марио, тогда как остальные братовья возмещают пробелы в языковом образовании при помощи генетического таланта к жестикуляции.
Анке и Фридхельм Вальтеры тоже не прочь включиться в общий бунт, но сдерживают себя при помощи исторических воспоминаний и уверенности в том, что немецкий язык не предназначен для громких выкриков.
Шоколадная собака Грусть и кошка Шарлеманя лают и мяукают во весь голос, Инна Иосифовна Оврагова-Дембицкая рыдает, Эльвина Куксенко падает в обморок, а точнее сказать, прямо в руки доктору Мертвецову – его девицы разлетаются в стороны, как морские брызги при нырянии кашалота.
Бунт второстепенных подходит к наивысшей точке, но вдруг бледного Валентина, застывшего в позе фанатика, смещает почти никому не знакомый тип с осанкой как у Пизанской башни. Попросту говоря, тип клонится вниз, то ли пытаясь таким образом преуменьшить свою роль в истории, то ли желая вызвать жалость. Черты лица у незнакомца – уточненные , как по ошибке сказал однажды наивный ребенок, имея в виду «утонченность». Хрящеватый нос, тонкие, будто у Моны Лизы, губы и безвольный подбородок – не лицо, мечта физиономиста.
– Послушайте! – взывает уточненный человек к разбушевавшейся банде второстепенных, и банда, что удивительно, внимает призыву. Только итальянцы все еще по инерции продолжают жестикулировать – как морально устаревший магнитофон вхолостую перематывает пустую пленку.