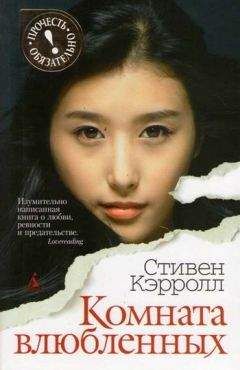– Интересно, что ты думаешь обо всем этом. Как ты расцениваешь подобный финал? Я-то понимала, что все кончится именно так. Я понимала, а ты понимал? Ты представлял себе, к чему все идет, или ты не сознавал этого? Мне хотелось бы узнать от тебя хотя бы это.
Ответа не последовало.
– Не будем говорить обо мне. Но ведь то, что делаешь ты, равносильно предательству. И невзирая на это, ты спокоен. По крайней мере мне так кажется.
Я ждала, что меня охватит обычный приступ гнева. Сакудзо вел себя в своем стиле – со времени банкротства он, подобно моллюску, который при опасности захлопывает створки раковины, не проронил ни слова. Обычно его упорное молчание приводило меня в бешенство. Ярость вырывалась из меня, как пламя из огнемета. Но на этот раз я не испытывала гнева.
– Когда я пытаюсь высказать свои мысли, меня никто не понимает, – заговорил наконец муж. – Ладно, если бы дело ограничивалось одним непониманием. Но мои слова выводят слушающих из себя. А я только такие вещи и могу говорить. Заурядному человеку не понять, какая пропасть разделяет того, кто попал в водоворот, и всех тех, кому ничто не угрожает.
– Что ты хочешь этим сказать? По-твоему, вполне нормально, что человек, попавший в водоворот, уже не в состоянии ничего видеть?
Муж с неохотой ответил:
– Нет, совсем не то. Вопрос не в том, кто прав, кто не прав. По сути дела, все шло своим чередом. Вот и все.
Во мне снова зашевелилась злость, и я возмущенно сказала:
– После всего, что произошло, ты еще способен излагать какие-то бредовые мысли!
Тут на моего супруга неожиданно нашло красноречие.
– У Гёльдерлина[3] есть превосходные слова. Звучат они примерно так: «Никому не дано возвыситься так, как человеку, и никто не может пасть так низко, как человек». Понятен ли тебе, Акико, зловещий смысл этих слов? Ведь речь идет не о том, что иногда человек может высоко подняться, а иногда – низко пасть. Нет, весь ужас этого высказывания заключен в мысли, что человек в равной мере наделен способностью опуститься на дно и способностью подняться к высотам нравственного совершенства. Вот в чем чудовищность человеческой натуры.
Пробудившийся было во мне гнев исчез. Я чувствовала упадок сил, как бывает при небольшой температуре. Я сроднилась с этим бессилием, как с ароматами далекого детства. Когда-то, еще во времена занятий в литературном кружке, Сакудзо завораживал всех нас потоками своего красноречия. Выглядел он тогда героем. Сейчас у него был точно такой же победоносный, самодовольный вид.
– Послушай еще, Акико. Сейчас все разглагольствуют: «Банкротство, пожалуй, оказалось полезным лекарством для Сэги». Однако на самом деле никаких лекарств не существует!
Неужели он так быстро ожил? А может быть, он и не умирал? В памяти всплыло видение: вот он со скрипкой в руках бредет по предновогоднему городу.
– Я не согласен с мнением, что после банкротства нужно махнуть рукой на долги. Я считаю, что следует выплатить все до последней иены. Но в теперешнем моем состоянии это мне не под силу. Вот и все.
Я представила себе, что он, наверно, легко и просто разведется со мной, будет невозмутим и спокоен, оставаясь по нескольку дней без еды, и, наверно, как ни в чем не бывало переночует где-нибудь под мостом. Он ни капельки не изменился. Взвалив на меня двадцатичетырехмиллионный долг, он бросает все и уходит.
– Ты не человек. Ты философствующий червяк!
У меня вырвался вздох. Меня злило, что, невзирая на все случившееся, его взгляды нисколько не изменились. Но с другой стороны, именно в этом я находила для себя какое-то утешение.
На следующий день мы с Момоко отправились на прогулку. Стоял теплый апрельский вечер. Над мозаикой из ветхих и еще совсем новеньких крыш нашего квартала раскинулся вечерний небосвод, окрашенный в мутно-розовые и серо-голубые тона. Когда-то здесь был лесистый холм, теперь об этом напоминали лишь кое-где уцелевшие высокие, темные стволы гинкго и пильчатой дзельквы. Миновав живую изгородь, из-за которой доносился запах жареной рыбы, мы подошли к следующему забору, и в воздухе повеяло жареным мясом.
– Мама, чего ты боишься больше всего на свете?
– Твоя мама ничего не боится, она сильная и смелая. Вот маму твою кое-кто побаивается. Для мамы же ничего страшного нет.
– Ох, какая ты… Опять сразу начинаешь задаваться… А я больше всего боюсь живодеров-собачников. Потом похитителей… Мама, а что ты будешь делать, если меня вдруг похитят?
– Вот это вопрос. Ну что же. Дам объявление в газете – «Инструкция для похитителей»: «Пишите с Момоко диктанты. По арифметике давайте ей упражнения на умножение. Например: 99 умножить на 7,99 умножить на 8…»
Внезапно перед нами открылся вид на окружную дорогу. Мы много раз приходили сюда, и каждый раз этот момент был неожиданным. Это объяснялось тем, что наш путь пролегал по запущенной, извилистой тропинке, в самом конце которой стоял деревянный коттедж. Он и скрывал автостраду.
Небо начинало понемногу темнеть, а внизу, словно горный поток, неслась вереница машин. Мы поднялись на виадук и стали лицом к югу. Город уже погрузился в темно-серые сумерки. С окраины одна за другой выскакивали автомашины с зажженными фарами. Казалось, в кабинах машин не было водителей – они стремительно мчались, словно автоматы, управляемые на расстоянии. Еще мгновение – и машины исчезали под нами. Не слышно было ни сигнальных гудков, ни человеческих голосов – единый мощный гул стоял над автострадой.
– Че-го шу-ми-те? Ду-ра-ки!.. – вдруг крикнула я с моста. – Момоко, попробуй-ка теперь ты.
Девочка радостно повторила за мной:
– Ду-ра-ки… Че-го шу-ми-те?… – Наши голоса потонули среди гула и грохота.
– О, если б воспрянуть!.. Если бы снова… – воскликнула я.
Автомашины все шли и шли. Вдоль шоссе зажглись огни люминесцентных светильников. Мы с Момоко стояли над рекой с грохотом мчавшихся машин и смотрели на юг.
От английского seamless – без шва.
От английского hostess – хозяйка. Девушки, развлекающие посетителей в кабаре, барах и т. д.
Фридрих Гёльдерлин – немецкий поэт (1770–1843)