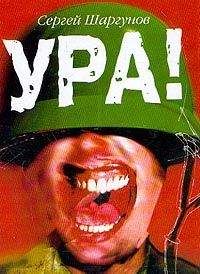— И сколько? — оживился Ефремов.
— Сто косарей, — буднично сообщил Пожарский и лязгнул зубами.
Ваня вздрогнул.
Ефремов присвистнул.
Ваня вздрогнул вновь.
— Молодец! — восхитился Ефремов. — А в остальном? Бизнес? Семья как? Область-то не вся перемерла?
— Бизнес — это, Мишк, военная тайна. Но ползет, ползет кривая… Семья — нормалек, младшая в школу пошла. Старшего в Брюссель отправил, на курсы дипломатов. Рулю, не жалуюсь. Знаешь, еще в старину говорил: «Тамбов — город гробов». Так и жуем сопли по старинке. СПИДак, старики бедные, из молодых есть, кто зарабатывает, чурбанов больше стало. Народ на выборы не ходит, пьют горькую и в землю… Бедная Россия, Миша! Когда гимн все вместе поют, я почему-то вместо слова «держава» — «корова» пою. Россия — священная наша корова… Буренка наша. Кормилица-поилица. Ты сам-то как? За Саратов пасти рвешь?
— Да хрен с ним, с Саратовым! — отмахнулся Ефремов. — Бабки вертятся. Как насчет — у вас завод открыть?
— Предлагай. Спрос большой. Местных я бы потеснил ради такого парня.
— Ага. Надо отдельно приехать, — обсудим.
— Давай, давай, Миха, мода на бухло у нас не кончится, — Пожарский подмигнул. — Не зарастет к бухлу народная тропа… Значит, до ужина?
Он встал. Гости встали.
Выходя из кабинета, Ваня с чиновным довольством подумал, что за время всей встречи не проронил ни звука, верная тень своего усатого господина.
— Дорогие друзья! — Ефремов стоял на сцене, зал был забит до отказа, в основном — средний возраст, люди, выдернутые с работ и брошенные слушать. — Мы помним, что происходило еще недавно. Но так устроена человеческая память, что плохое хочется поскорее забыть. В этом и состоят труд и мужество политика: видеть и помнить самые темные стороны жизни… Я вам честно скажу, девяностые годы я иначе, как клятыми, клятыми девяностыми, не называю!
В нескольких точках зала хлопнули горячие ладоши, и зал захолонуло аплодисментами.
— Друзья, да, нам по-прежнему непросто, проблем навалом, но Россия едина, Россия уверена в завтрашнем дне. И все это благодаря команде, к которой имею честь принадлежать я и в которой работает ваш губернатор — Леонид Пожарский!
Снова в тех же эрогенных точках раздались хлопки, и шумная потная волна плоти, бьющей о плоть, прошумела по рядам.
— Спасибо за доверие! Многие из нас думают, что все уже в порядке и можно расслабиться. А этого и ждут от нас враги. Все девяностые они разоряли и спаивали народ, топтали святыни, называли Россию свиньей или козой, в глубь которой надо заглянуть…
В зале возмущенно старушечьи охнули. Ефремов сказал торжественно:
— Народ их отверг!
Раздались жидкие несанкционированные хлопки.
— Но у них есть западные хозяева, — продолжил он сокрушенно, — учителя из Америки, которые выделяют им гранты. И вот эти дети капитана Гранта, а на самом деле пираты Карибского моря, — зал обдал себя ушатами освежающего смеха, — очень хотели бы направить корабль России на рифы.
«Хорошо шпарит, сволочь», — подумал Ваня про начальника. Впрочем, одну и ту же речь господин Ефремов всякий раз с вдохновением говорил, куда бы он в тот день ни ехал.
На восьмом повторе про «учителей из Америки» Ваня стал вспоминать учительницу из Америки, навестившую их школу. Он тогда пошел в первый класс.
В первый день был Урок Мира. Его вела Александра Гаврилова, добрейшая и в меру строгая, полноватая, домашняя, с гордым и теплым взглядом наседки, с большим шерстяным клубком волос на затылке. Несколько лет она будет над ними трепетать. На Уроке Мира она показывала толстую книгу волшебных контрастов: в цвете колосились поля советского Ставрополья, но черно-белый (черная клякса одежды, белое пятно лица) лежал на тротуаре застреленный рабочий Чили.
В этом первом классе английской специальной школы было несколько детишек дипломатов, непременно с легким золотистым налетом загара. Казалось, так проступало внутреннее довольство. Были и оторвыши, пролетарские дети, с обреченной прозеленью в лицах.
Зеленоват лицом был Андрюша Дубинин, круглый светло-карими глазами и круглый ноздрями, к которым подошло бы круглое кольцо, желтый кудряшками. Следовало написать сочинение про свою семью. В несколько печатных строчек. Девчонки-отличницы накатали лучше всех. Они во всем успевали, эти несколько сексапильных особ, чьи щеки энергично розовели от каждой пятерки. Образцовые сочинения им, очевидно, составили успешные родители-дипломаты. А Дубинин трудно писал сам. Александра Гавриловна недоуменно зачитала его историю под смех класса и особенно радостный, звонко-электрический смех отличниц. Ваня смеялся со всеми, посмеивался… А над чем было смеяться?
«МОЯ МАМА ХОДИТЬ НА ЗАВОД. У МОЕЙ МАМЫ ЕСТЬ ПОДУШКА. Я ВЕРЮ В СКАЗКИ. БАБА-ИГА БЫВАИТ», — просторно поведал миру правдолюб Андрей Дубинин, которого после второго класса зачем-то перевели в школу для дефективных.
А ведь и Иван верил в сказки!.. Но смеялся, как все.
Из стана отличниц выделялась Лола Лагутина. Она была поживее этого розового коктейля. Вреднее, гибче, своенравнее. Первого сентября Ваня взглянул на нее в столовой и удивился: как таких маленьких сюда пускают? У нее был беззащитный вид. Она уплетала шоколадный сырок и сверкала черным любознательным мышиным глазком, когда глаз Ивана ее впервые приметил. За хрупкой беззащитностью скрывался расчет. Обнаружив, а вернее, учуяв интерес одноклассника, Лола тотчас стала выманивать разные красивые вещицы: блокнот с Микки-Маусом, стильный карандаш, чей ствол был красно-коричнев, — она пищала жалко-жалко, получала требуемое в сахарный зубок, делала перебежку к своей парте и добычу спешно засовывала в норку ранца. Зато Ваня и девочка стали созваниваться.
— Лолык! — подзывал ее мужчина густым трубным голосом.
Солнечноликий, подчеркнуто смуглый, он встречал ее после занятий. Девочка вбегала в широкие объятия его кожаного рыжего плаща.
Ваня ей названивал, и она ему звонила, и кротко просила: «Почитай мне что-нибудь». Читал ей сказки. Просила читать букварь, про Ленина, — читал про Ленина.
Она ушла из школы лет в десять и поступила в балетное училище. Превратившись из белой черноглазой мышки в маленького лебедя, она стала балериной Большого Театра. Она нерядовая балерина. И муж ее — модный певец. А Ваня, отскакивая часы на диване, представлял ее рядом с собой, а не с вами, модный певец: пыль крутилась, стреляли, и мягкая черная голова, полная капризов и страхов, все плотнее вжималась в сердце чародея…
Лола была его первая настоящая любовь, — потому что в свои детские годы уже была абсолютно женственна.
Она была единственная, кому он, глядя в глаза и отдавая пачку выигранных вкладышей, прошептал: «Рамэламурамудва». И тотчас любовь занялась в нем гриппозным пожарищем. Даже будущей жене он «Рамэламурамудва» не сказал. Та любовь из первого класса была в его жизни самой-самой.
В те времена парты и подоконники цветастой метелью захлестнули вкладыши — пестрые картинки, приложенные к жвачкам. Советский школьник вкушал свою первую, сухую, правильной формы жвачку с таким замиранием и благоговением, с каким его западный ровесник принимает облатку на первом причастии. А метель вкладышей разгорелась, кулаки застучали по сладким бумажкам в такт боевому чавканью. Удалось перевернуть ударом — бумажка твоя. Множество вкладышей было у детей дипломатов, бедняки рассчитывали на ловкость кулаков или приносили жалкое подобие. Правдолюб Андрей Дубинин широким жестом высыпал на школьный подоконник яркие вырезки из тоталитарного журнала «Корея».
А перестройка уже шла по плану. И приехала первая американка. Она готовилась после переменки зайти в класс. Между тем по галдящему коридору пронесся слух: вон та сухопарая и длинная, с натянутой улыбкой одними ярко-накрашенными губами, это и есть она. А знаете, что у нее в оранжевом пакете? Гостинцы, подарки, яркие, которые могут всем не достаться. Сначала группкой, а потом толпой вокруг американки угрожающе накапливались дети. «О, хэллоу!» — сказала она с пугливым восторгом. Первым толкнул Андрюша Дубинин: он, нагнув голову в желтых кудряшках, боднул ее в живот. И, как по команде, понеслось… Ваня стоял в двух шагах, заглядывался, не зная, помочь гостье или навалиться со всеми. Это было месиво! Среди толпы мелькала черная головка маленькой разбойницы Лолы. Атаманша любопытно и зло крутилась в битве. Орудовала ярая банда малолеток, визг, натиск, а над всем — выпученные глаза и перекошенный рот миссионерши, ее лицо беспомощно и несчастно колыхалось. Внезапно он ощутил во рту тот провокационный привкус, который дарит жвачная резинка, взывая к челюстям — скорее размолоть ее. Глядя прямо в обморочные глаза чужеземки, отдаваясь сладкому призыву, Ваня щелкнул зубами. Он вонзил зубы в нежную сладость, но укусил воздух: челюсть щелкнула об челюсть. Голова американки нырнула вниз — громкий стук тела, общий визг, многоголосый вопль победы…