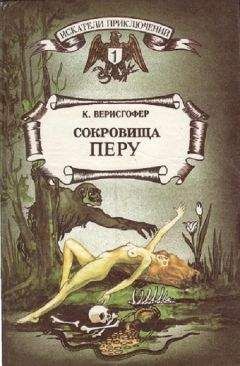То немногое, что я узнал о ней за этот сеанс терапии, не очаровывало. По уму, по духу, по культуре она отстоит от Магды Дамрош настолько, насколько это вообще возможно. Мисс Датнер читает немного — некогда, нет привычки, — роман-другой Воннегута и толстенная книга «Властелин колец» — она не смогла припомнить чья. Нет, к Вагнеру — никакого отношения; книга об эльфах и всяком таком. Любит Маккюэна (Род Маккюэн (р. 1938) — популярный певец и автор стихов) — он замечательный, понимаете, глубокий. О том, что имеет хотя бы относительное право именоваться музыкой, она вообще ничего не знает. Об изобразительном искусстве, театре — ничего. Для отдыха у нее — кинофильмы, особенно фильмы ужасов: она «угорает» от них. И ходит в дискотеки. Снимает квартиру с двумя другими девушками — и вместе посещают бары на Второй авеню. Еще любит заниматься физкультурой — большей частью в Ассоциации еврейской молодежи, но и в постели тоже. (Тут она рассмеялась и шаловливо подмигнула.)
Аллея кончилась. Солнце светило в глаза. Взглянув на часы, мисс Датнер объявила, что пора назад. Мне нельзя перенапрягаться. В любом случае я ведь не хочу опоздать к обеду? Мы пошли обратно. Я не возражал. Честно говоря, я устал — не так от ходьбы, как от обыкновенной скуки. Ограниченная, пустая, занятая только собой, не размышляющая, как все это поколение, которого она может служить образчиком. Меня клонило в сон. При всем ее сходстве с Магдой я не мог разглядеть в ее глупостях следов той Цели, которая, как мне померещилось, свела нас на этой земле. И когда я почти отчаялся и уже готов был впасть в ересь Случайности, она произнесла слова, вновь укрепившие меня в моей вере. Она рассказывала о своей семье: отец — кливлендский брокер, мать — музыковед в местном институте, название которого я слышал впервые. Она презирала их «стиль жизни». Они отвечали взаимностью. Происходили страшные ссоры. Наконец она ушла из дому, уехала в Европу. Путешествовала там — иногда одна, иногда с «каким-нибудь парнем». Озарение пришло к ней в Англии — это было как гром среди ясного неба. Она поняла, что может употребить свое тело и свой гимнастический талант на благо человечества. Теперь у нее была миссия. Она нашла свою точку опоры.
— Либо ты сама станешь доктором или адвокатом, либо выйдешь за хорошего еврейского мальчика, доктора или адвоката. Вот как они рассуждают.
— Имелись в виду родители. — Ну ладно, у меня были не самые лучшие отметки в школе. Так что они делают? Слышите — они начинают водить домой ребят из местного клуба — знаете, при синагоге? — по пятницам, каждую пятницу нового. Можете себе представить? Жуть! Ну просто жуть. Малютка Манди сбежала от них. Фюить! Вот что я вам скажу: что бы они ни думали, я им не дура. У меня своя голова на плечах.
Бедные родители. Возможно, их утешит ДФТ их дочери, не говоря уже о свежем романе с доктором Комиксом.
Но когда ты слышишь: «Я им не дура… У меня своя голова на плечах» — именно в таких выражениях, — когда гнев выплескивают перед тобой, словно это ты в чем-то повинен (а так оно и есть в каком-то смысле), — как после этого не поверить в Цель?
Да, да, я догадываюсь, какими малозначащими должны показаться эти слова — совершенно обычные слова, не заслуживающие внимания. Но — терпение, прошу вас. Скоро вы поймете их связь с историческим моментом, который я намерен осветить, с тем, как сошлись на перекрестке времени Магда Дамрош, Дада и я.
Тем временем солнце спряталось в тучах. День сделался пасмурным. Я ощутил осенний холод и поежился. Терапевт и выздоравливающий вернулись в «Эмму Лазарус».
Она оставила меня в вестибюле, там же, где подобрала, — небрежно, почти равнодушно, во всяком случае без церемоний.
— Ладно, вы молодцом. Теперь сами. И я остался сам с собой. Давно остался.
Сегодня я вновь приступил к репетициям. Какое фиаско! Только теперь я оценил подлинное величие и гениальность бедного Синсхаймера: его преданность тексту, его драматическое чутье, его благородную властность.
Труппа встретила меня тепло, и это притупило мою бдительность. Когда я поднялся на сцену, мне стали аплодировать, жать руку, меня хлопали по спине. Блум наигрывал на рояле «Он славный парень». Мадам Грабшайдт, подняв стакан сельтерской с лимоном, провозгласила тост: «Господа, здоровье князя могильщиков, нашего доброго друга Отто Корнера!» Это была трогательная встреча.
Липшиц хлопнул в ладоши, призывая к порядку.
— За работу, друзья. Прошу очистить сцену. Довольно светской жизни.
— Ее никогда не довольно, — ядовито ответил маленький Поляков. Второй могильщик в нашем спектакле и старый большевик, Лазарь Поляков приехал в Америку в 20-е годы и сделал состояние на металлоломе. Несмотря на свои миллионы, он остался рьяным коммунистом, а посему заклятым врагом Липшица, старого сиониста. Среди нас он любовно именуется Красным Карликом.
Мы все ушли за.кулисы, остались на авансцене только Липшиц и мадам Давидович. Она держала в руках суфлерский экземпляр.
— Акт пятый, сцена первая, — объявил Липшиц. — Входят могильщики. Тишина.
Мы с Красным Карликом вышли на сцену.
— Поляков, — сказал Липшиц. — Кирка тяжелая. Она вас пригибает.
— У меня нет кирки.
— Будет. — Липшиц театрально вздохнул. — А пока что сделайте вид, будто она есть. Вернитесь и попробуйте еще раз.
Мы сделали, как нам было сказано. На этот раз Красный Карлик спотыкался, словно нес на плече слона. Он торжествующе улыбнулся Липшицу.
Липшиц недоверчиво покачал головой, но сдался.
— Ну? — сказал он мне. Я взглянул на своего маленького подручного.
— «Разве такую можно погребать христианским погребением?»
— Стоп! Стоп! — закричала Давидович. Липшиц хлопнул себя по лбу.
— Ой, никто ему не сказал. У вас старый текст, Отто. Мы внесли кое-какие изменения.
— Какие изменения? — выйдя из-за кулис, спросил Гамбургер. — И мне не сказали об изменениях. Теперь Шекспира улучшаешь, голова? Клика опять взялась за свое!
— Сложилось мнение, — сказал Липшиц, облизнув губы, — что эти разговоры о «христианском погребении» могут кое-кого оскорбить. Как-никак среди наших зрителей много ортодоксов, если не сказать фанатиков. Как это прозвучит? И мы подумали: какая разница, если мы выкинем несколько слов и заменим другими?
— Так какая же у меня реплика?
— Простая. Вы говорите: «Разве такую можно погребать в Минеоле?» Это же слово вы подставляете и в других местах.
— Чудесно! — сказал Гамбургер. — Изумительно! Минеола, как известно, расположена непосредственно к югу от Эльсинора.
— И я это должен сказать? «Разве такую можно погребать в Минеоле»?
— Совершенно точно. Вы все поняли. Чуть сильнее акцент на «такую», а в остальном прекрасно.
— Я этого не скажу.
— Правильно, не поддавайтесь фашистам. — Красный Карлик с вызовом исполнил коротенькую жигу.
Липшиц отмахнулся от него.
— Почему не скажете?
— Потому что я стану посмешищем. Меня зашикают.
— Минеола — это смешно? — сказала Давидович.
— Тоска, пожалуйста, позвольте мне с ним поговорить. — Липшиц снова обратился ко мне.
— Хорошо, предположим — заметьте, я с вами отнюдь не соглашаюсь — но предположим, так? Так, это смешно. Ну и что? Вы помните, дорогой Адольф — да будет земля ему пухом — что он сказал? «Пятый акт, — это его собственные слова, я цитирую, — пятый акт начинается в комическом ключе». Так что люди смеются. Отлично, говорю я. Так видел эту сцену Адольф. Отто, умоляю, сделайте это ради него.
— Я помню также, что говорил Синсхаймер о неприкосновенности текста. Для него слова Шекспира были святыней.
— Туше, — Красный Карлик снова исполнил жигу.
— Тоска, — сказал Липшиц, — лучше вы ему объясните.
И тут она вскрылась, вся позорная подоплека. Сын и невестка Тоски Давидович собирались прийти на спектакль. Сын женился на нееврейке. Отсюда — двадцать два года сердечных страданий; отсюда слезы, которыми она еженощно орошает подушку. Бог наказал их бесплодием; они, в свою очередь, наказали ее внучком-вьетнамцем. «Это меня они хотят похоронить по-христиански — меня, Офелию. Никогда в жизни. Я не доставлю этой шиксе, этой Мюриэл такого удовольствия».
— В третьем акте Клавдий у нас молится на коленях, — сказал я. — Может быть, снабдим его талесом и тфилном (Талес — накидка вроде шали, носимая во время религиозной службы. Тфилн, или филактерии, — кожаные коробочки с заключенными в них библейскими текстами. Во время молитвы их надевают на лоб и на левую руку)?
— Не такая плохая мысль, — сказал Липшиц, задумчиво почесав подбородок. — В этом что-то есть. Евреи, конечно, не становятся на колени.
— Вы с ума сошли! — возмутился Гамбургер.
— Вам нечего сказать, Гамбургер, — ответил Липшиц.
— Нет, есть, — сказал Гамбургер. — Мне есть что сказать. С этой минуты я не участвую в вашем фарсе. — И он гордо вышел, весьма элегантно для своего возраста сделав поворот кругом.