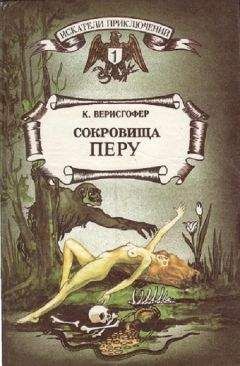— Не надо эмоций». Кеннет позвонил американскому военному атташе в консульство и потребовал, чтобы он немедленно приехал, поскольку англичане пытаются противодействовать ясно выраженным намерениям Государственного департамента. Следующим звонком был вытребован главный местный представитель Международного Красного Креста. «А теперь увидим, что будет», — сказал Кеннет. И мы увидели. В течение двух часов я был подвергнут беглому медицинскому осмотру, бумаги были подписаны и проштемпелеваны, и мы отправились в путь. «Подлецы, — ворчал Кеннет, — чванливые бездельники».
Через десять дней мы были в Шербуре, а еще двумя днями позже поднялись на борт «Иль-де-Франс», отплывавшего в Нью-Йорк. Перед этим Кеннет нарядил меня во все лучшее, что мог предложить послевоенный Париж, лично проследил за деталями модной стрижки в «Георге V» и накормил такой изысканной пищей, о существовании которой я уже и забыл. Кеннет, по-видимому, не сознавал каким потрясением он был для меня. Мой мир снова перевернулся вверх ногами, Я, наверно, не сказал Кеннету и десятка слов: много хихикал, много плакал, а остальное время молчал — «снова вызван к жизни», но еще не верил, что не мертв, В такси по дороге с причала у Кеннета возобновился тик 1934 года.
— Отто, — сказал он вдруг с сухой улыбкой, — это радостный день. Ничто не должно его омрачить. — Он на минуту умолк. — А вот опять река Гудзон, — сказал он, когда такси стало подниматься к шоссе Вест-сайд. — Там, как я тебе говорил, Нью-Джерси. Выше — Палисейдс. Чудесно, а? — Несчастье наполняло такси, как ползучий туман, и заслоняло солнце. — Да, вот мы опять вместе. — Он хлопнул меня по бедру. — Наконец-то все. То есть, я хочу сказать, все трое… — Снова молчание. Такси свернуло к Бот-Бейсин. Кеннет улыбнулся два раза подряд. — Ты не удивляйся Лоле. Много времени прошло. Ей было тяжело. Все надеялась, не могла поверить… а потом… эти события — да, эти события в Европе ужасные, они потрясли ее, всех нас. Она все равно надеялась… потом поиски, потом, когда выяснилось… Но, слава богу, ты здесь, и это… это… она так… это будет для нее такая радость. — Такси остановилось у большого, дома на Сентрал-парк вест. — Это счастливый день.
Мы подошли к двери, и Кеннет вбежал в квартиру с криком: «Лола, Лола, мы здесь! Отто со мной!» Тишина в ответ, только тишина. Пробка не вылетела, шампанское его оказалось без газа. В комнатах сумрак, жалюзи пропускали лишь не сколько спиц света. Стоял слабый запах мимозы.
— Она, наверно, в магазине, а может, в парикмахерской. Помнишь, я посла; каблограмму. Нас ждут. Сейчас открою окна.
Комната была просторная и воспроизводила их жилье в Нюрнберге. Я узнал книги, картины, тяжелую полированную мебель — все было расставлено как в прежнем доме.
— Садись, Отто, садись, устраивайся удобнее. — Снова тик. — Чего тебе, пива1; Сейчас принесу, сиди. — И он ушел, изо всех сил стараясь подавить разочарование,
Оттуда, где, по моим расчетам, была кухня, внезапно раздался душераздирающий крик: «Нет! Нет! Нет!» Глухой удар — и тишина.
Что он с собой сделал? Я вскочил и кинулся туда.
На белом линолеуме, согнувшись, закрыв руками голову и вздрагивая всем телом, стоял на коленях Кеннет. На трубе, протянутой под потолком через век кухню, висела, выкатив мертвые глаза, моя сестра Лола. Еще бы чуть-чуть, и она бы уцелела: ее ноги на два сантиметра не доставали до линолеума. К груди была аккуратно пришпилена записочка — записочка, едва ли с чем-нибудь сравнимая по трогательной скромности: «Отто, Курт, простите. Лола».
У меня не хватило сил снять ее самому. Прежде мне пришлось поднять ее рыдающего мужа. Вдвоем мы уложили ее на кухонный пол, но перед этим полуослепший Кеннет ударил несчастную головой об угол газовой плиты. Как же он взвыл после этого! «Прости, прости меня, дорогая. Прости, ради бога!» Я не нашел в себе мужества сказать, что ей уже не больно. Вам должно быть понятно, что он не привык к таким ужасам.
Что до меня, то я внутренне оцепенел, был оглушен и, возможно, не совсем вменяем. То, что произошло сейчас во внешнем мире, почти не затронуло моего сознания. Я отреагировал на смерть Лолы как на смерть, которую давно оплакал, как на тяжелое воспоминание, еще яркое, но уже не способное потрясти. Напоминаю: я не вполне еще покинул Некрополь; я все еще пребывал в Городе Смерти. Выкарабкавшись из кровавого чрева Европы только для того, чтобы найти свою сестру мертвой, я бессмысленно пытался продолжать дышать.
Кроме того, надо было предпринять какие-то действия, сообщить властям. Словно во сне, я позвонил в полицию — мой первый звонок в Америке, — ничего не сознавая и лишь изумляясь как чуду тому, что говорю в трубку спокойно. Потом я вернулся к Кеннету и телу сестры.
Бедный Кеннет! Он винил себя в смерти Лолы, не догадываясь об истине. А истина была проста: увидеть меня после всего для сестры было непереносимо. Не могу упрекнуть ее за это.
Тогда-то я и засунул воспоминания о Лоле вместе с остальным прошлым на самую верхнюю полку в чулане и плотно закрыл дверь. (В беспечную минуту дверь приотворяется, и я снова слышу жалостные голоса. И мигом, чтобы сохранить рассудок, захлопываю дверь.)
Письмо Рильке у меня украдено, а не потеряно и не упрятано в забытый тайник! Теперь в этом нет сомнений. Но радость, приходящая с достоверным знанием, часто бывает отравлена самим характером узнанного. Поэт Мильтон это понимал: как Адам и Ева, познав, я ощутил себя нагим и беззащитным, мной овладели растерянность и страх.
Вот что произошло: я получил подметное письмо. Впрочем, «письмо» тут не совсем годится; целью послания, по-видимому, было вывести меня на похитителя. Но оно вызвало у меня тревогу, поскольку было без подписи, написано печатными буквами, лишенными признаков индивидуальности, и лишь косвенно намекало на имя вора. Так что я вдвойне жертва — и вора, и доносчика, который «мог бы, если б захотел» говорить прямо, но предпочел (из злорадства?) иное. В этом смысле они сообщники: один по понятной причине молчит, другой изъясняется обиняками по причинам непостижимым и темным и оттого пугающим.
Письмо пришло сегодня, было просунуто под дверь, между завтраком и обедом, пока я заседал на Революционном совете в Молочном ресторане Голдстайна. Это загадка в стихах, головоломка или, точнее сказать, шарада. Привожу ее целиком:
Загадка, кто повел себя прегадко: Коль ребус растолкуешь, — и отгадка; Его без ожерелья соедини с основой, Рыбешкою бесхвосто-безголовой. А опознать захочешь подлеца — Смотри в начале и в конце лица'.
Признаюсь, что, несмотря на лингвистические способности, я всегда был слаб по этой части. Не в том дело, что мне не хватает изобретательности, но та специфическая изобретательность, которая нужна для решения шарады, является, я думаю, исключительным достоянием ее автора. Его ассоциации, его, так сказать, умственные синапсы едва ли могут повториться в другом мозгу.
Как проникнуть в сознание составителя шарады? В том-то и загвоздка. Однако первое двустишие понятно: речь в нем о воре, о краже и о том, что вершить правосудие предстоит мне. Пока все хорошо. Второе двустишие уже неприятнее. Тесею в лабиринте по крайней мере помогали; но как мне найти Минотавра? Не буду описывать многих неудачных попыток, долгих часов замешательства, тупиков, куда я забредал по дороге, — сразу перейду к решению. Рыбешку, о которой идет речь в двустишии, я определил не без труда как КИЛЬКУ. Оставшись без хвоста и головы, то есть без К и У, она дала мне ИЛЬК. Разгадка уже очевидна, и первая строка двустишия ее лишь подтверждает. В слове РЕБУС за вычетом ожерелья, БУС, остаются требуемые две буквы фамилии Р и Е. Итак, РИЛЬКЕ!
Здесь и далее — шарады в переводе Елены Кассировой.
Вот откуда я вывел, что письмо Рильке у меня украдено, а не затерялось и не выброшено по ошибке.
В последней части шарады зашифровано, очевидно, имя вора. Но по иронии судьбы — а в моей судьбе иронии хватало — как раз этот шифр я и не могу разгадать. Пока что.
* * *
Революционный совет, о котором я упомянул выше, приступил к дискуссиям. Я тихо сидел в библиотеке, читая в «Тайме» ленивые отчеты о каждодневных кровавых безобразиях, как вдруг в дверь просунулся Красный Карлик, увидел меня и бочком вошел. Он наклонился и прошептал мне на ухо:
— Товарищ, нам нечего терять, кроме своих цепей. — Воровато оглянувшись, он поднес к губам палец. — Тсс. (В библиотеке мы были одни.) Сегодня у Голдстайна заседание Центрального комитета. Ровно в десять тридцать. Явитесь. — А затем, должно быть разглядев выражение моего лица, дернул себя за воображаемый чуб: — Мы будем благодарны, любезный сэр, если вы почтите нас своим присутствием.
Вообще-то у меня были другие планы на утро — мелкие дела, кое-что накопилось за последние дни, не мешало бы сходить за покупками и так далее, — и я уже собрался сказать ему об этом, но тут снова отворилась дверь и вошла мадам Давидович. Нас она, конечно, игнорировала. Палец Красного Карлика снова взлетел к губам. «Тсс». Затем громким голосом, как бы продолжая необязательный разговор, он сказал: