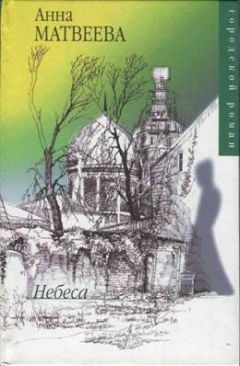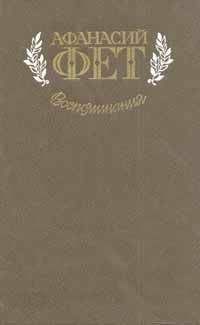Розовый куст, отяжелевший от цветов, молился пред забором, сложив тонкие руки-стебли, но безуспешно: каждое лето розы обрывались прохожими, не умеющими ценить живую красоту.
…Тяжелая жара давила плечи, мама обмахивалась свежей газетой, только что гулко упавшей в почтовый ящик: мы спешили на речку. Спуск с нашей горы оканчивался затененной деревьями улицей Электриков, и мы с Сашенькой, будто собаки, мчались по следу только что выпеченных булок, душистого печенья, пирожных, склеившихся боками на промасленных обрывках пергамента… Навстречу шли старухи с батонами под мышкой, от булочной ревя выруливал фургон с косой надписью «Хлеб». Протянув ладошки маме, мы всякий раз получали по монетке; неспешная продавщица, коронованная марлевым колпаком, снимала с поддона булки, пахнущие раскаленными яблоками. Задыхаясь этим ароматом, мы слизывали крем с пирожных, и пустые ладошки долго хранили жгучий запах металла.
Улица Электриков перетекала в понтонный мост: раскаляясь на солнце, он так сильно жалил ноги, что нам с Сашенькой, еще на выходе из булочной успевшим снять сандалии, приходилось надевать их заново, но уже не застегивая, хлябая и шлепая в свою радость.
Река в этих местах была неглубокая, но быстрая. Сашенька, нетерпеливо сбросив надоевшее платье, вбегала в речку и окуналась с головой, всплывая быстрой рыбкой через несколько метров. Я мучилась завистью и стыдилась своих трусиков: Сашенька уже носила купальник, хоть наша бабушка ядовито замечала, что девочке абсолютно не па что его надевать.
Незадолго до берега, там, где взрослому человеку по колено, я опускалась на живот и ходила по нежному дну на руках, высоко задрав голову, воображала себя Русалочкой. Мне всегда удавались мечты — и если бы не надоедливые Сашенькины подныривания, получилось бы махнуть чешуйчатым хвостом по зеленой воде и занырнуть в кувшиночьи заросли, где белые цветы лежат на лакированных листьях как на блюдечках… Сашенька со своими физкультурными достижениями сбивала меня с мыслей и переключала их на другую программу: я представляла себя лучшей пловчихой городского бассейна, в красивом и скользком купальнике, в голубой резиновой шапочке, я бесстрашно ныряю с бортика в едкую воду и плыву, плыву, плыву… Мечты эти умирали быстро, как бабочки, — в осеннем городе, с желтыми листьями, прилипшими к подошвам, я молча проходила мимо бассейна, и героические картины так и не оживали в памяти.
Мама сидела на берегу, поджав под себя ноги, и кричала, как птица, одни и те же слова: «Сашенька, Глаша, сейчас же выходите!» Мы выбегали из теплой реки в фейерверке брызг, увидев хрумкую розовую редиску и серый местный хлеб, ноздрявый и душистый. Солнце деликатно уходило в сторону от пляжа, и мелкие крапинки ряби торопливо неслись по реке. В обычный день я наслаждалась бы теплом, ароматной коркой хлеба, в ноздринках которого застревали мутные кристаллики соли… Но день сегодняшний обычным не был, и в былых радостях не находилось облегчения.
Первый выстрел на этот раз достался маме:
— Зачем жить, если потом умрешь?
— Зачем есть, если в туалет пойдешь? — передразнила Сашенька и, стряхнув с загорелых ног хлебные крошки, снова сбежала к реке.
Глядя ей вслед, мама объясняла:
— Умру я, ты, бабушка, но не умрет человечество! Ты будешь жить в своих детях и внуках, о тебе будут помнить — разве этого мало?
Спустя много лет я прочитала примерно те же слова у Толстого, и они разочаровали меня, как в детстве. Разумеется, мне мало раствориться в детях и внуках: умереть, оказаться нигде, стать ничем для того, чтобы о тебе всего лишь помнили? Да полноте, и помнить-то станет не всякий — вот мы, например, уже начали забывать бабушку Таню, вскоре начнется ремонт в ее комнатах, а иконы вместе с цветами обещаны соседке из голубого дома, которая всегда угощает нас с Сашенькой невкусными шоколадками «Пальма». Вчера кидали землю в могилу — сегодня купаемся в речке.
— Почему тебя так это волнует, Глаша? — Мама собирала объедки в бумажный кулечек и одновременно следила за сестрицыными водными экзерсисами. — Жизнь… она такая длинная, разная, тяжелая. Мне вот никогда не хотелось вечной жизни, мне бы это надоело!
— А мне не надоест, — упрямилась я. — Или пусть точно скажут, что будет после смерти.
Сашенька вышла из воды: блестящая спина в мелких капельках, выгоревшие добела косицы-баранки, темные веснушки на скулах. И без того раскосые глаза сощурены — от пренебрежения.
— Какие вы разные, девочки! — вздыхала мама, тогда как я всякий раз мрачно радовалась нашей несхожести.
Благодаря ей сестра была равнодушна к моим книгам, добытым в библиотеке или откопанным в залежах бабушкиной сараюшки. Сашенька не слишком любила читать, и я единовластно царила над бесценной молчаливой гвардией. Сорвав с куста столько тугих помидоров с зелеными челками, сколько вмещали мои ладони, я плотно закрывала за собой кривую дверь. В сараюшке густела темнота, пахло нагретыми камнями и теплой пылью, под крошечным окошком томился ссыльный диван с обнаженными пружинами… Надкусанный помидор выскакивал из рук, и шерстяное старое одеяло, стыдливо скрывавшее пружины, украшалось желтенькими липкими зернышками.
Душистые страницы старых книг, оторванные переплеты, исчерканные ребячьей рукой титульные листы… Каждое лето в сараюшке обязательно обнаруживалась еще одна неподъемная пачка, где маялись без движения книги, связанные шпагатом. Летом, когда умерла бабушка Таня, я нашла здесь очередную пачку списанных из большого плавания книг — там был оборванный с обеих сторон «La creation du Mond», и я сразу же, безоговорочно поверила увиденному.
В опустевших комнатах бабушки Тани начался долгий ремонт — уничтожая следы присутствия, он возвращал жилищу потерянную невинность. Слова молитв, витавшие здесь многие годы, исчезали в слепящем от свежей побелки свете дня. Иконостас в самом деле разобрали, и можно ли считать грехом мое осмысленное воровство, когда посреди ночи, под сенью крыл фосфорного орла, я вытащила из готовых к передаче стопок маленькую икону Божьей Матери? Картонная и нежная, она была зримо меньше других. Ее можно спрятать между страницами большой книги — и я знала, какая это будет книга! Золотистая теплая иконка сияла в моих ладонях — за окнами темнела беззвездная ночь, и собака-невидимка глухо лаяла в темноте.
Наутро я попросила у бабушки разрешение взять домой альбом Эффеля — и получила небрежное согласие. Иконка мягко легла между страницами, я увезла альбом в Николаевск и не открывала двадцать долгих лет.
Младенец проснулся, и Артем сумел наконец его разглядеть. Не такой уж он, кстати, оказался и младенец: мальчику было не меньше года — на взгляд Артема, довольно плохо понимавшего в подобных вещах. Светлячок — и волосы, и глазенки светлые, блестящие. Мать поставила светлячка на ножки, по-младенчески кривоватые, и он заковылял навстречу Артему. Будущий крестный неловко улыбнулся — никогда не умел общаться с ребятишками. Малыш между тем остановился в полуметре и выпятил вперед нижнюю губку, собираясь плакать.
— Вы чего тут застряли? — Вера быстро подхватила племянника на руки, и тот доверчиво обхватил ее за шею толстенькой ручонкой. — Там все облачились, ждут!
По-военному быстро откликнувшись, гости заспешили вверх по ступенькам — генерал Борейко шел во главе батальона, его малиновая шея рдела впереди, как знамя. Очутившись рядом с фотографом, Артем увидел фрагмент прозрачного неба и пятна плывущих облаков в гигантском объективе. Вера скрылась из виду, передав малыша бабушке, и он тут же раскапризничался, стал тянуться к маме, торопливыми затяжками приканчивающей сигаретку.
Неужели Вера не могла найти ребенку крестного получше, чем Артем? У каждого второго гостя крест на шее болтается, напоказ выпростанный из-под рубашки… И почему такое серьезное дело доверили юной тетке? Артем начал жалеть о своем согласии, он чувствовал себя инородным телом в спаянной массе знакомых и близких друг другу людей. Лучше было провести вечер с Батыром, чем краснеть перед генеральскими родственниками.
— Ты как?
Вера дожидалась его внутри. Взяла, как дитя неразумное, за руку и повела на второй этаж. Артем немедленно позабыл про свои сомнения, зато начал заикаться даже мыслями. В маленькой комнатке, куда привела его Вера, в четыре руки переодевали ребенка — бабушка снимала толстый, будто накачанный воздухом комбинезон, а мать держала наготове кружевную рубашечку. Ребенок устало хныкал.
— Не спал сегодня, — объяснила мать, взбивая пальцами вспотевшие локоны мальчика.
Вера сделала просительное лицо и снова сбежала.
Артем вышел, чтобы не мешать процессу, и наугад ткнулся в первую попавшуюся дверь. Оттуда выходил владыка Сергий в лиловой мантии; Артем вначале отметил, что епископ слегка выше его ростом и взгляд у него прозрачный, нездешний, а потом уж только смутился и сложил руки, как в детстве. Владыка мимоходом благословил его, и Артем остался один, слушая затуманенные расстоянием голоса гостей и разглядывая распятие, нарисованное углем на притолоке.