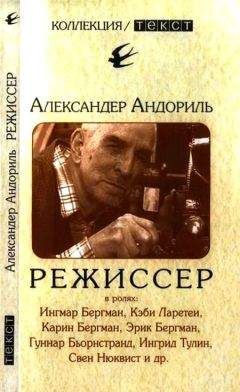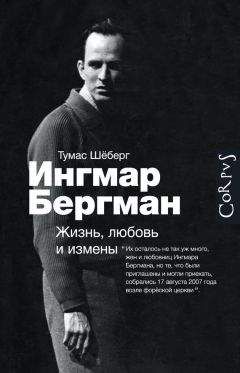Ровная медно-желтая тень ложится на Ингмара. Кажется, она проходит через темное стекло — огромная, как шинель. Стиснув зубы, он крепко зажмуривается. Ну как можно быть таким дураком, думает он, решив, что в наказание отправится спать голодным.
Снова оказавшись за рулем, Ингмар закрывает глаза и с большой высоты видит их короткое прощание. Примыкающие друг к другу прямоугольники крыш. Черная и красная черепица, рыжий кирпич. Террасы с установками для чистки ковров. Шахты дымоходов, водосточные трубы. Между домами — улица Стургатан в свете вечернего солнца. Автомобиль поблескивает, как капля смолы на цинковой пластине. Ингмар стоит перед отцом и просит его взять последнюю шоколадную плитку. Отец отказывается, но не сопротивляется, когда тот кладет шоколад в карман его пальто.
Кинолента в стеклянной банке местами лежит в два, а то и в четыре слоя. Иногда кадры накладываются точно, и насыщенность усиливается, а иногда со смещением, делая лица гротескными и уродливыми.
* * *
Ингмар вешает ключи на крючок, ставит банку на шляпную полку, входит в полосу желтого света, спотыкаясь о туфлю на высоком каблуке. Светло-серое пальто валяется на линолеуме в коридоре. В целлофановом пакете угадываются хлеб, ветчина и картонка с шестью яйцами.
— Я сказал Кэби, что останусь в городе, — бормочет он. — Что мне надо немного побыть одному.
Она приподнимает с подушки голову.
— Приезжает Маиму, — продолжает он. — Им все равно хотелось побыть вдвоем.
Она вздыхает и отворачивается.
— Значит… не думаю, что Кэби расстроится, — говорит он, не глядя в ее сторону. — Ведь когда мы повстречались, она жила в свободном браке и…
Он расстегивает рубашку, на лестнице кто-то смеется.
— Она сказала только, будто хочет знать правду, что само по себе является ложью.
За окном слышен женский крик, затем кто-то хлопает дверцей автомобиля.
— Н-да, — вздыхает он, ощупывая свой живот.
Бесчисленные дубли, все менее узнаваемые. Бокал «Шерри» на столе. Тривиальность самой ситуации. Свет вечернего солнца сквозь грязные стекла, его брюки, висящие на стуле, трясущаяся спинка кровати, шелест чулка, соскальзывающего с шершавой пятки.
— Что будем делать? — спрашивает он, обводя взглядом нежно-розовую внутреннюю поверхность бедра и пах.
Лица не видно, напряженная линия шеи. Тонкий лоскут простыни прикрывает чашу, раскрывшиеся в ожидании меха, скользит по тупым грифелям сосков.
— Ну что? — спрашивает он. — Будем изменять?
— Возможно.
— Для этого мы и здесь? — говорит он, и она кивает.
На рожке люстры висит бюстгальтер телесного цвета. Ингмар увидел его только сейчас. Предполагалось, что, войдя в квартиру, он засмеется. Туфли в коридоре, пальто на полу, брюки и так далее.
Она придвигается ближе, прижимается к нему, а он рассказывает о том, что продолжает свои поездки по церквам в Упланде вместе с отцом.
В преддверии нового фильма.
Хотя вообще-то следовало признаться, что речь идет об одной-единственной церкви, отец с ним больше не поедет.
— А вечером он прочитает первый вариант сценария, — говорит Ингмар, слыша, как кто-то остановился на лестничной клетке рядом с их дверью — как раз в тот момент, когда он положил руку ей на бедро.
— Да ты что, — весело воркует она.
— Что хотим, то и делаем, — шепчет он.
— Ты думаешь?
— Но наша жизнь, очевидно, станет немного проще, если мы не будем сейчас заниматься любовью.
— Тогда пойдем доедать завтрак.
— Я решил сегодня больше не есть.
— Ты не голоден?
Он встает с постели и подходит к окну. По тусклой летней улице кружатся бесчисленные семена вяза. Ветер взвихряет дюны из крошечных хрупких чашечек. Они кружатся вокруг ног одетого в черное мужчины с пуделем на поводке.
— Завязка рождается, когда пастор понимает, что не способен почувствовать любовь, — говорит он. — Потому что именно в этот момент учительнице ясно: выбора у нее нет, ее задача — любить пастора. Я много думал о ней, понимаешь… Молить о любви — разве может быть что-то более патетическое?
Не услышав ответа, он оборачивается: она заснула, рот ее приоткрыт, и он чувствует лишь облегчение из-за своей несостоявшейся измены.
Хлопанье крыльев, влажные губы.
За бельевым шкафом слышатся звуки, на шепот они не похожи, скорее напоминают шуршание бумаги, прилипшей к стене и трепещущей от сквозняка, когда дверь в подъезде открывается.
Упершись плечом в торец, он немного отодвигает тяжелый шкаф и видит, что стена вздымается.
Вздымается и опускается вновь, словно неторопливо дышит.
Дотронувшись до стены, он чувствует мягкую поверхность. Нажимает рукой, и та проходит сквозь обои.
Кто-то пытался скрыть эту дыру, думает он. Заклеить отверстие, ведущее в чулан.
Ингмар срывает большой кусок обоев, проводит пальцами по краям дыры, заглядывая внутрь.
Осторожно просунув голову между шкафом и крошащейся кирпичной стеной, он заглядывает туда и видит маленькую запущенную комнату с пожелтевшими газетами на окне.
Прислонившись ко внутренней стене, под черным газовым счетчиком сидит рослая женщина с серьезным детским лицом.
На грязном полу перед ней лежат костыли.
Бесцветные, словно веревка, волосы, заплетенные в косу, лежат на огромной груди.
Кормилица, думает Ингмар. Неужели она не мерзнет, ведь его собственное дыхание паром клубится на фоне серого кирпича дымохода.
— Тут на борту сразу теплеет, — шепчет она, опуская взгляд. — Каждый раз, когда ребенок лишает себя жизни.
— Что ты сказала?
— Извини, — бормочет она, ее шея и щеки краснеют. — Ты разве не помнишь, что мы виделись в Даларне? У прорвавшейся плотины на реке. Я не толкнула тебя, но солгала, не рассказав о боли в груди и о том, что небо чернеет и трясется, как в заиндевелом окне, прежде чем…
Море еще светлее, чем ночное небо. Вязкие, словно масляные, волны почти бесшумно переливаются.
Маяк над островом Ландсурт взмывается ввысь, будто столп раскаленного воздуха.
На побережье пока темно, карликовых сосен не видно.
Ингмар думает о том, что валиум надо было принять еще два часа назад. Утро уже совсем близко. Кэби что-то бормочет в постели.
Он вычеркивает одно предложение за другим, когда в ризнице пастор рассказывает учительнице о своих сомнениях.
Ему сложно об этом говорить, думает Ингмар, размышляя о том, что делал бы со своим неверием, будь он пастором.
Он еще сильнее нажимает пальцем на край небольшого конвертика, в котором лежит бритва.
Наверное, это у всех одинаково.
Сейчас ему сложно вспомнить, говорил ли отец о своей собственной вере, затрагивал ли вообще какие-то богословские проблемы.
Ему приходит в голову лишь стихотворение 1925 года, посвященное матери.
Он вычеркивает легкомысленное сравнение причастия с каннибализмом. А потом и остатки повисших в воздухе реплик.
Ему по-настоящему нравится в этой сцене, что учительница слушает пастора, словно ребенок, который рад случаю вовремя вставить свое «да, понимаю» и не встретить в ответ сопротивления.
Но пастор не видит ее.
Как и в историях Пер Гюнта, Дон Жуана и Рейквелла, он хочет на протяжении всего фильма рассказывать о сложном и неприятном человеке. В глубине души зритель всегда готов простить, думает Ингмар. И в то же время он будет болеть за учительницу, которая конечно же должна плюнуть на этого пастора, хватит уже унижаться, он никогда не сможет дать ей того, что ей нужно.
Похоже, летнее утро проступает из белесых ночных сумерек, а Кэби стоит на пороге в спальню.
— В такой жаре спать невозможно, — говорит она сонным голосом.
— Ветра совсем нет.
Он не видит ее: под пеленой тени черты лица расплылись.
— Ну как? — спрашивает она.
— Ничего.
— Это хорошо.
На окошке стоит свинка из розового фарфора, в спине у нее отверстие для свечи.
— Я только что перечитал беседу с рыбаком, — говорит он. — Помнишь, когда мы ездили в Буду навестить пастора, который венчал нас, — они все вели себя как-то странно.
— Да, точно, там кто-то покончил с собой.
— Он был там и разговаривал с пастором много раз, но все же сделал это, — произносит Ингмар с улыбкой, глядя на мертвую муху, застрявшую в отверстии на спине свинки. — Догадываюсь, что отец потребует вычеркнуть сцены, в которых…
— Да не будет он это читать, — перебивает Кэби. — Он и не взглянул на тот первый вариант.
— Но я же сказал матери, чтобы он про него забыл, я сам позвонил и сказал, когда закончил новый вариант.
— Ну смотри, — бормочет она.
— Ты о чем?
— Ведь… у тебя почти не осталось времени, пора раздавать сценарий актерам и…