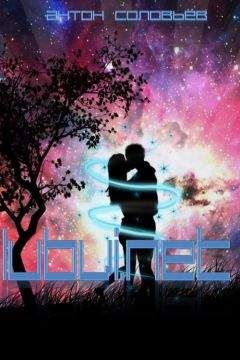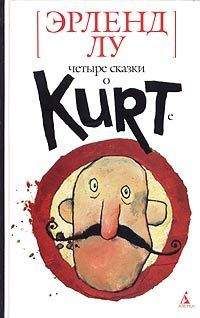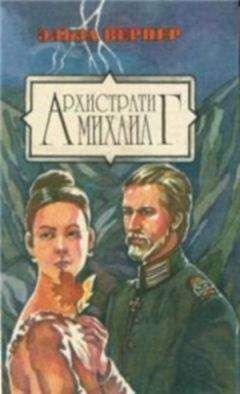Незнакомец обратил внимание, что я наконец-то заметил его, но ничего не сказал мне, а только еще более приветливо улыбнулся и продолжал идти рядом со мной в одном ритме. И так мы шли какое-то время, пока я, наконец, не решился с ним заговорить.
— Куда идешь? — спросил я у незнакомца.
Незнакомец остановился, посмотрел мне в глаза, и я, не в силах выдержать пронзительного взгляда его грустных серых глаз, уставился в землю.
— Все повторяется, — сказал он, и его голос показался мне удивительно знакомым, будто бы я слышал его уже много раз до этого, будто со мной говорил давний друг. Хотя я видел этого человека впервые. — Очень давно точно такой же вопрос задал мне один мой друг. Его звали Петром.
Услышав это, я очень испугался, мгновенно вспомнив и книгу Генрика Сенкевича «Камо грядеши», и «Деяния апостолов». Мне вдруг стало настолько страшно, что даже моя боль от израненной любовью души отступила на второй план. Я хотел упасть перед ним на колени, но он жестом остановил меня.
И тут я немного опомнился, и в голову мне пришла мысль о том, что эта ассоциация со встречей апостола Петра и Христа по дороге в Рим могла посетить только меня, а мой новый знакомый имел в виду совершенно другое. И у него действительно был друг Петр. Мало ли на свете людей, носящих имя Петр? Но я почему-то отбросил эту мысль в сторону. И мне вдруг захотелось спросить, где и при каких обстоятельствах состоялся его разговор с человеком по имени Петр, которого он называет своим другом. Но я сдержался.
— Пойдем! — он поманил меня рукой и медленно зашагал рядом по обочине Каширского шоссе.
И я подумал, что никакие уточнения, никакие наводящие вопросы не нужны. Они не только могут все испортить, нет, они могут разрушить весь смысл этой пешей прогулки с незнакомым человеком по обочине оживленной, пыльной трассы. И мы просто пошли рядом, а сердечная боль, взявшая небольшой тайм аут, пока я пребывал в некотором удивлении, разгорелась с новой силой. И видимо, такая мука отразилась на моем лице, что незнакомец сочувствующе вздохнул и дотронулся рукой до моего плеча.
— Тебе больно? — спросил он.
— Больно? — рассеянно переспросил я.
— Тебе очень больно? — спросил он снова и вздохнул. — Ведь это очень больно для тебя — любить. Ты страдаешь. Я это вижу, поэтому я и пришел к тебе.
— Но разве ты можешь помочь мне? Хотя зачем я спрашиваю, ты же всемогущ.
— Всемогущ? — риторически спросил он, — Может быть, и всемогущ. Только для того, чтобы что-то получить, надо всегда знать, что ты хочешь. Иначе может получиться так, что я дам тебе то, что просишь, а дар окажется напрасным, ненужным тебе.
— Но разве ты сам не знаешь, что мне нужно? Тебе как никому другому ведомо, что мы, люди, хотим.
Он улыбнулся.
— Так дай мне то, что я хочу, что я желаю, если это возможно, если я это заслужил. Ведь ты пришел ко мне. Ты приходишь к сильным, к мудрым, о ком будут говорить спустя много лет. Но разве я такой, разве я заслужил это? Разве я достоин того, чтобы ты пришел ко мне?
— Все вы достойны, абсолютно все, — ответил он. — И сильные и слабые, и кроткие и дерзкие, и любящие и проклинающие. Разве те, кому я протягиваю руку, и кто отвергает ее — недостойны? Но я и их прощу. Я прощу всех. На то мое право. Я всегда здесь, я всегда рядом, со многими, почти со всеми, когда они любят и умирают за свою любовь, когда их предают и предают они сами, когда они совершают безумства и кричат, и зовут меня. И я рядом, но они не видят меня, даже когда я стою совсем рядом. Я всегда рядом, просто ты захотел меня увидеть. Вот и все.
— И чего я все-таки хочу? Скажи мне, я сам не знаю.
— Ты знаешь, просто ты боишься сам себе в этом признаться. Не бойся, просто скажи это вслух.
— Я хочу, чтобы во мне умерла любовь, чтобы эта агония кончилась, я хочу быть свободным от нее.
— Ты сказал, — он вздохнул.
— Но разве это не мука, разве это не боль — так любить, так страдать, когда кажется, что весь мир рушится на твоих глазах, а другие просто думают, что ты сходишь с ума от глупости, которая присуща молодым. Я знаю, они скажут мне, что сами прошли через это, что они тоже страдали. И чем я хуже их? Мучайся, раз и мы мучились. Ты понимаешь, что я хочу сказать?
— Я всех вас понимаю. Я вас понимаю, и мне больно. Но скажи мне, мятежный Андрей, что ты будешь делать без твоей любви? Что? Как же ты будешь жить? Ведь в душе у тебя вместо любви будет пустое место, и оно заполнится другими чувствами, и ты будешь сначала думать, что это любовь, но это не будет любовью. И ты поймешь, рано или поздно поймешь, что лучше страдать и ждать, пока любовь в муках не переродится заново и ты снова будешь счастлив, а ты хочешь все сразу, ты хочешь удовольствия от общения с женщиной, ты хочешь восторга и при этом не хочешь страдать. Но все в этом мире имеет свою цену. Я могу забрать твою любовь, но, забирая любовь из твоей души, я заберу и себя. Потому что я и есть любовь. И ты поймешь это.
— Но, может быть, уже поздно? — с ужасом спросил я.
— Никогда не поздно, никогда. Запомни. Я сделаю, как ты просишь, я заберу то, что причиняет тебе боль и делает счастливым. Но и я, я уйду из твоего сердца. Прощай!
Он пропал так же неожиданно, как и появился. А возможно, он никуда и не пропадал, просто я теперь перестал его видеть. В первые минуты мне казалось, что вообще ничего этого не было. Никакого странного человека в белой рубашке с коротким рукавом, в белых брюках и в запыленных сандалиях на босу ногу.
Скорее всего, мне все это привиделось. Меня просто хватил солнечный удар, плюс еще все эти любовные переживания. Конечно же, привиделось, думал я тогда. Потому что если бы я рассказал об этом какому-нибудь священнику, он тут же обвинил бы меня в непомерной гордыне. Священники, которые ночами напролет молятся за людей — не видят его, а глупый мальчик, страдающей от не менее глупой, даже не юношеской, а почти что детской любви, шел рядом с ним по обочине Каширского шоссе и разговаривал. Да, у меня не было никаких материальных свидетельств подтверждающих реальность этого разговора. Никто кроме меня не видел этого человека в белом, который говорил мне о любви и о своем друге Петре, и том, что он забирает у меня то, что приносит радость и страдание одновременно. Забирает… Забрал.
И тогда я остановился как вкопанный и прислушался к своим ощущениям. И мгновенная, страшная, опустошающая сознание ясность понимания того, что мир для меня изменился, перевернуло все во мне, и я присел на корточки, и обхватил руками голову, и часто задышал. Мир изменился, и он теперь никогда не будет для меня прежним. Это вся та же планета Земля, это все те же город Москва и Каширское шоссе, по которому с гулом проносятся машины, обдавая обочину смрадом выхлопа и пылью. Но в то же время это был совсем другой мир, потому что в нем для меня теперь не было того волнующего, щемящего чувства, которое последний год приносило безумный восторг и радость, а в последний день — оглушительную, дикую боль, терпеть которую уже не было сил.
Теперь в моей душе была холодная, словно поверхность заледеневшей на морозе реки, ясность, ясность и понимание того, что я теперь по-другому смотрю на мир. Я огляделся по сторонам. Мир не утратил прежних красок, звуков и запахов, но в то же время он был каким-то холодным, блестящим и ярким, как снег, искрящийся на зимнем солнце. И мне стало одновременно легко и грустно оттого, что боли, любовной агонии в моем сердце больше нет, но я не знал пока, как буду жить с этим дальше, что меня ждет.
Я чувствовал сильное внутреннее опустошение и легкость одновременно. Но это была какая-то обманчивая, пугающая легкость. С такой легкостью обычно прыгают из окна, поднимаются во весь рост из окопа со связкой гранат, и в то же время с этой легкостью проходят равнодушно мимо чужой боли. Я не стал ненавидеть и презирать мир, я не стал равнодушным, я по-прежнему любил этот мир и эту жизнь, но это была какая-то иная любовь. И была ли это любовь или же просто холодное понимание того, что мне здесь жить, что мне это все просто может пригодиться для моего существования. А любви больше нет. Нет и не будет никогда. Я не стал ломать голову, просто шел вперед и был тогда рад только одному — что это страшная агония кончилась и этой страшной, готовой разорвать меня на части любви больше нет.
Я решил, что если и дальше буду погружаться в такие глубокие рассуждения, то голова пойдет кругом и я вообще потеряю чувство реальности. И я решил просто оглядеться по сторонам, понять, где нахожусь и куда идти дальше. Едва я заставил свое сознание работать на более или менее адекватное восприятие окружающего мира, как тут же понял, что это у меня получается легко и непринужденно.
Оказалось, что я отмахал огромное расстояние, которое навряд ли в здравом уме решился бы пройти ранее. Через минут десять-пятнадцать быстрого шага я подошел к метро Каширское. Я пытался сообразить, что мне теперь делать дальше. Я ясно понял, что прежний жизненный оптимизм вернулся ко мне, едва прошла любовная агония. На секунду меня даже посетила странная мысль о том, что это странное видение молодого человека в белом было не чем иным, как защитной реакцией моей психики против сильного стресса, который мог привести к безумию. И поэтому мое сознание сыграло со мной в некую игру и просто убедило меня в том, что любовь была забрана у меня мистическим образом. Дойдя до входа в метро, я тщательно обдумал эту версию и пришел к выводу, что она так же логична, как и все прочие версии, но все же имеет один недостаток — ее никак нельзя проверить. И я, в который раз пообещав себе не ломать понапрасну голову, вошел в метро.