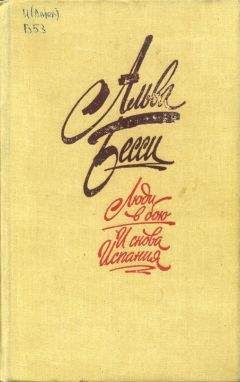Выходя из поезда, каждый глядит только на соседа, а вокруг люди — группами в десять, двадцать человек, все как один с одинаковыми бумажными пакетами, в городских пальто, в фетровых шляпах и кепках — вываливаются из поезда, пересекают перрон, упорно стараясь не замечать друг друга. Мы садимся в такси, называем водителю нужную нам гостиницу, глядим на проносящийся за окнами машины город. Город лежит на горе, и наша машина лезет на гору; мощенная крупным булыжником дорога вьется и петляет; домишки по бокам окрашены в пастельные тона — нежно-розовый, голубой, бежевый. Пальмы, узкие улочки, широкий главный бульвар; наше такси явно привлекает внимание прохожих. У гостиницы мы высаживаемся из машины, проходим в дверь, которую распахивает перед нами крепкая, в самом соку француженка. Она улыбается, называет нас camarades, приглашает подняться наверх, где для нас приготовлены комнаты. «Обед будет через десять минут», — говорит она.
В комнате холодно, здесь не топят. Мы умываемся холодной водой, прыгаем на мягких пуховых перинах, глядим в окно на раскинувшийся под нами город. Тут является наш провожатый, а с ним еще один парень из парижского комитета. Провожатый, похоже, недоволен нами.
— Помнится, я велел вам ехать в эту гостиницу, — говорит он и тычет нам карточку.
Мы озадачены.
— Она напротив, — говорит он, — вы поселились не в той гостинице.
— Но мы велели водителю ехать в гостиницу, которую вы назвали, — говорим мы, недоумевая, почему этому придается такое значение. Товарищи удаляются на совещание и вскоре возвращаются.
— Ладно, — говорят они. — Пусть двое из ваших ребят переберутся в гостиницу напротив. Понимаете, между гостиницами соперничество.
Мы смеемся.
— Вы пробудете здесь весь день сегодня и завтра до обеда. После обеда за вами заедет такси и отвезет вас в следующий пункт назначения. Будьте начеку, не пропустите машину. Ходить по городу разрешается, только ни с кем не разговаривайте. Если вы хотите потратить свои деньги, советуем купить табак и шоколад, но в первую очередь — табак. В Испании плохо с табаком.
Мы спускаемся в комнату, которая служит разом гостиной и столовой, где в ожидании обеда уже сидят человек двадцать. Еда самая неприхотливая: клиентуру гостиницы составляют рабочие. Подается суп с крупными ломтями хлеба, колбаса разных сортов, недурное пиво или вино — на выбор — и горячее овощное блюдо. За длинным столом сразу завязывается разговор. Все быстро осваиваются, хотя мало кто понимает друг друга. Среди нас два француза, три поляка, несколько румын — как на подбор молодые. Мы пробуем свои силы в разных языках. Большинство европейцев объясняются по-французски и по-немецки, и мы ведем, хоть и с запинками, нескончаемый разговор, соединяя немногие известные нам слова по меньшей мере из пяти разных языков. Мы потешаемся над языковыми потугами друг друга, но нас неодолимо тянет общаться: вместе куда веселее. Среди нас студенты, инженеры, докеры, конторские служащие, профсоюзные работники и фермеры. Почти все видят друг друга впервые, но держатся приветливо и непринужденно, словно закадычные друзья: рассказывают о том, кто кем работал на родине, о друзьях, о семьях. Они говорят о политической обстановке в Европе, о том, что законное правительство непременно должно выгнать иностранных интервентов из Испании; а ты чувствуешь, что для каждого из этих ребят, кем бы он ни был раньше, война в Испании — личное дело, глубоко и непосредственно его касающееся. Уже одно это само по себе — особенно если вспомнить, к каким разным слоям они принадлежат, — исключительно важно с политической точки зрения. Непосредственно о войне они совсем не говорят, не рассуждают ни об артиллерийских, ни о воздушных налетах, ни о пулеметных очередях. А ты чувствуешь, что многим из этих парней не суждено увидеть ни своих друзей, ни свои семьи; чувствуешь, что они не осознают, на что обрекают себя, что идеализм ослепляет их, мешает им трезво оценить то, что их ждет. И тут же понимаешь, что поспешил с выводами, что эти люди вовсе не ослеплены — вернее было бы сказать, что они одни из первых в истории солдат, которые знают, против кого и за что они идут воевать, и которые готовы воевать, хотят воевать. Их присутствие здесь, на французской границе, свидетельствует, что они ясно понимают свою цель. Ведь никто не заставлял их ехать сюда, ничто, кроме собственного душевного порыва, не могло заставить их приехать сюда.
Они совсем не похожи на американцев, с которыми мы плыли на пароходе, — Гувера, Гарфилда и Эрла. Гувер и Эрл тоже рабочие, они работали металлистами на авиационном заводе в Калифорнии, участвовали в затяжных забастовках, однако о них никак не скажешь, что они, подобно большей части человечества, ничего не знают в жизни, кроме работы. Они, что называется, летуны. Эрл прежде был второразрядным боксером. Гувер за что только не брался, а Гарфилд околачивался при артистических кругах. В облике Гарфилда есть нечто женское, хотя он вечно пристает ко всем с рассказами о брошенной им жене и о своих бесчисленных любовных похождениях.
— Буду работать в госпитале, — сказал он мне. — На передовую я не хочу, а работать в госпитале не прочь, если даже нас и будут время от времени бомбить.
Я спросил его, почему он едет в Испанию.
— Чтобы стать мужчиной, — ответил он, и мне кажется, на свой романтический лад он отчасти в это верит.
Ему двадцать шестой год, а вот мужчиной его никак не назовешь, слишком мало в нем мужского. На пароходе они с Эрлом сразу невзлюбили Гувера: Гувер очень шумлив, любит привлечь внимание к собственной персоне, к своим былым подвигам. Он рассказывает, что был летчиком, показывает фотографию, где снят у самолета; показывает и карточку хорошенькой девушки — она, по словам Гувера, погибла в автомобильной катастрофе.
— После ее смерти, — с подчеркнуто горькой усмешкой говорит Гувер, — жизнь мне недорога. Я надеюсь погибнуть.
— И мы на это надеемся, — говорят Эрл и Гарфилд. — Невелика потеря.
* * *
Когда умом понимаешь, что тебе предстоит важный шаг, происходящее тотчас приобретает чуть ли не символический характер. Есть такое свойство у нашего ума — все, что ты видишь, ты видишь теперь в этом свете. Мы шагаем узкими тихими улочками Безье — город кажется нам олицетворением мирной жизни. Мы делаем кое-какие покупки: приобретаем американские сигареты и табак, ежики для трубок, зажигалки, открытки — посылать родным (Дорогие мои Дэн и Дейв, я сейчас во Франции, за океаном, далеко-далеко от вас. Мама покажет вам на карте, где Франция…), — и вдруг тебя пронзает мысль, что покупки ты делаешь последний раз в жизни; мысль эта, если ее сразу не отогнать, наводит жуть. Меркель хочет пройтись по городу, но меня тянет к кинотеатру — там есть утренний сеанс. Мне хочется посмотреть американскую картину, вновь обрести связь с родиной. Однако фильм «Черный легион»[17] (на французском) лишь укрепляет меня в решении, которое забросило меня так далеко от родины. Он и впрямь помогает мне вновь обрести связь не только с родиной, но и с прогрессивными силами, которые сейчас действуют во всем мире. Когда я смотрю этот фильм — в нем рассказывается, как типичный американский рабочий подпадает под власть идей, противоречащих тем его качествам, которые делают его американцем, — я вновь до боли остро ощущаю, что во всем мире действуют силы зла. Эти злые силы разъединяют человека с человеком, брата с братом, и я вновь понимаю, что борьба с ними неизбежна. Ибо в этом фильме передо мной наглядно предстает фашизм в его американском обличье, фашизм, который не ограничивается пропагандой, а калечит судьбы людей, передо мной предстает та упорная сила, которая хочет во что бы то ни стало закабалить людей путем насилия и притеснения. Этот фильм снова приводит меня в ярость, а нормальному человеку трудно долго носить в себе ненависть.
Нам хорошо спится на французских перинах, не мешают ни холод, ни средиземноморский туман, вползающий в комнату сквозь открытое окно. Мы просыпаемся рано, сразу после обеда к дверям гостиницы подкатывает такси, консьерж на прощание подносит каждому по стаканчику fine[18] за счет гостиницы, и мы втискиваемся в машину. Выезжаем из города, минут двадцать катим на север, потом сворачиваем в ворота зажиточной фермы. К фермерскому дому примыкает большой каменный сарай с раздвижной дверью; нас приглашают пройти в сарай и ждать дальнейших распоряжений. Дверь за нами задвигают; в сарае холодно. Здесь стоит лишь несколько бочек, верстак, на котором валяется ржавеющий фермерский инвентарь, и длинный, составленный из трех дверей, положенных на плотничьи козлы, стол. Есть тут еще сеновал и дверь, ведущая в фермерский дом, — она наглухо закрыта. В сарае копошатся трое на редкость прелестных ребятишек, темноволосых и темноглазых; французы они или испанцы — не разберешь.