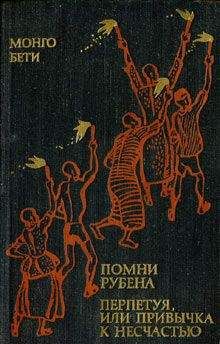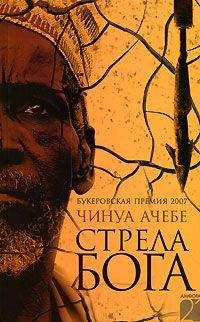Но те окольными путями вернулись в поселок, где мудрый старец, обеспокоенный отсутствием своего юного гостя, вскоре поднял тревогу. Принялись допрашивать подростков, допрашивали сурово, каждого в отдельности. Те нагло заявляли, что понятия не имеют о том, что могло случиться с Мор-Замбой; да, они ходили купаться на речку, как обычно; нет, юного пришельца они не видели, да он и вообще не рискует отойти так далеко от дома. Жена Ангамбы не замедлила вступиться за сына, взялась вместо него отвечать на вопросы, стала возмущаться и даже попыталась обратить все происшедшее к своей выгоде: разве не говорила она, что этот чужак по природе своей — беглый раб, как и все чужаки, и что он рано или поздно сбежит? Да и кто, кроме последних дураков, мог ожидать от Мор-Замбы чего-нибудь иного, кроме черной неблагодарности и побега?
— Пойди-ка ты лучше посмотри, все ли цело у тебя дома, — заключила она, обращаясь к старцу. — Может статься, там тебя поджидает пренеприятное открытие!
— Побег! Но с чего бы ему бежать? — растерянно бормотал старик. — Ведь его и так никто не удерживал…
— Взглянул бы ты все-таки, что у тебя делается дома! — не унималась супруга Ангамбы.
Вняв неустанным просьбам старика, все взрослые мужчины провели эту ночь в долгих, но безуспешных поисках, обшаривая лес и кустарник между Экумдумом и рекой.
В эти времена мы уже обрабатывали только те земли, что лежали по ту сторону реки, и на следующий день, переправившись, как всегда, на противоположный берег, мы обнаружили там Мор-Замбу в набедренной повязке из листьев, с глазами, полными ужаса, такого продрогшего, что при виде его сердце разрывалось от жалости. Глядя на него, нетрудно было догадаться, что за ночь пришлось ему провести. И — о чудо из чудес! — он заговорил с нами, и речь его показалась нам на редкость мелодичной и связной, если, конечно, не принимать во внимание неизбежные при таких обстоятельствах всхлипывания и запинки. Он подробно поведал нам о своих злоключениях.
Мы были потрясены и удручены, узнав, что наши сыновья, родившиеся и выросшие в нашем поселке, наши дети, за которых еще вчера мы могли поручиться без всяких колебаний, едва не совершили настоящее преступление, посягнули на жизнь маленького чужестранца, своего сверстника, который ничем их не задел и ничем перед ними не провинился. Сердобольный старец, приютивший бездомного ребенка, был свидетелем нашего замешательства и понял, что пришло время сразиться с судьбой, воззвав к нашему рассудку. Дождавшись, когда наступит вечер и отцы семейств, по разным делам отлучавшиеся днем из Экумдума, вернутся к своим очагам, он стал посреди улицы, идущей неподалеку от шоссе, и долго трубил в рог, чтобы привлечь внимание, а потом заговорил голосом особенно проникновенным, оттого что он доносился к нам из мрака и казался гласом самого Правосудия, обличающего преступление:
— Сегодня я хочу обратиться к вам, отцы и матери тех, кого и чудовищами-то назвать язык не поворачивается. Вам, отцы и матери, намерен я сказать сегодня несколько слов, задать несколько вопросов. Все ли вы сделали, что в ваших силах, чтобы искоренить ненависть и злобу в душах ваших детей? Сумели ли хорошенько втолковать своим сыновьям, что чужой и безобидный ребенок — существо священное? Да что же это за невиданные нравы появились у нас и откуда они? В дни моей юности мы старались завязать дружбу с чужестранцами, стремились завоевать их доверие, любили их, как собственных братьев; а если пришельцы эти оказывались нашими однолетками, мы встречали их с особой радостью! А теперь их убивают. Я обращаюсь к вам, отцы и матери, произведшие на свет хищных зверей в человечьем обличье. Молите Небо, чтобы вашим собственным сыновьям не довелось оказаться одинокими и безоружными среди чужих людей. Молитесь, чтобы на этой земле, где все может случиться, ваши сыновья всегда оставались здесь, у вас под крылышком, под защитой вашего благословения. Но кому ведома воля Неба?..
Наслушавшись этих проклятий, заключавших угрозу будущему наших сыновей, мы загорелись желанием подвергнуть их обряду очищения и, чтобы выяснить вину каждого в отдельности, учинили такой суровый допрос, что им пришлось признаться, кто из них замешан в злодейском нападении, чем насолил им Мор-Замба, кто задумал преступный план, как и под чьим руководством пытались они его осуществить. Скоро нам стало ясно, что сын Ангамбы являлся одновременно зачинщиком и исполнителем этого дела, а другие подростки примкнули к нему только в предвкушении возбуждающего зрелища.
Мы так никогда толком и не узнали, к каким чудесам красноречия, заботливости и бдительности пришлось прибегнуть доброму старику, чтобы удержать у себя своего гостя после столь отвратительного покушения. Очистительный обряд над виновными завершился всеобщим празднеством, длившимся целый день, и, судя по царившему тогда веселью, можно было подумать, что Мор-Замба отныне окончательно усыновлен племенем, сполна заплатив цену — и какую цену! — за право считаться впредь членом общины.
Как бы там ни было, но в тот день, словно по волшебству, рухнули преграды взаимного предубеждения и недоверия, и теперь Мор-Замба мог, не подвергаясь больше опасности, в одиночку обследовать поселок, который до этих пор почти совсем не знал, бродить по лесам, принадлежащим общине, и, разумеется, купаться в реке.
Эту крутую перемену еще ускорили шаги, предпринятые одной сердобольной женщиной — той самой, которая была убеждена, что у этого бездомного ребенка должна быть мать, и с первого же дня робко попыталась встать на его защиту. После злосчастного покушения она не стала больше скрывать свои чувства и послала к Мор-Замбе своего старшего сына, приходившегося ему ровесником, с деликатным поручением: он должен был убедить юного чужестранца заглянуть к ним в гости. Времена переменились: не без участия доброго старца Мор-Замбу удалось в два счета уговорить, и вот жители Экумдума впервые увидели, как он весело играет с одним из местных подростков. Это зрелище поразило их, ибо, как им раньше казалось, ничто в поведении маленького скитальца не предвещало такой перемены. Шли дни за днями; к Мор-Замбе и его сотоварищу потянулись другие экумдумские ребятишки и после некоторых колебаний, словно ждали, что их будут упрашивать, в конце концов присоединились к их шалостям и забавам. Сын Ангамбы пришел последним и не скрывал своей злобы и недовольства, завидуя дружеским и даже сердечным отношениям, установившимся между чужаком и его собственными братьями, которые вдобавок стали относиться к нему самому как-то холодно, словно собирались объявить ему бойкот. Вскоре дело дошло до того, что экумдумские ребятишки принялись наперебой зазывать Мор-Замбу к себе в гости, где его ждал самый теплый прием. Только сын Ангамбы так и не решился последовать их примеру.
С той поры из нашей памяти стал мало-помалу изглаживаться переполох, поднявшийся в день появления Мор-Замбы в Экумдуме; мы настолько свыклись с его присутствием среди нас, что заезжий человек только диву бы дался, узнав, что на самом деле этот мальчуган не из наших. Все пересуды об этом, слава богу, прекратились, так что иной раз казалось, будто мы и вовсе про него забыли. Но разве такое забывается?
Ангамба был прав, когда говорил, что чужак в общине все равно что капля масла на поверхности воды: никогда им не слиться воедино. Но кто в этом повинен?
Итак, жизнь вошла в привычное русло и вновь потекла неторопливо и неприметно, как чуть журчащий ручеек в тени старого дерева. Мор-Замба рос не по дням, а по часам, и, наблюдая за его возмужанием, мы удостоверились, что он и впрямь был сущим ребенком, когда объявился у нас. Долгое пребывание в лесу, под открытым небом, наделило его такими способностями, какие встречаются разве что у живущих на воле зверей; поэтому, сам того не желая и даже не замечая, он всегда брал верх над нашими собственными детьми не только в играх, но и во всем, за что ни брался. Был первым в беге, дальше всех бросал копье, лучше всех плавал, был неутомим в пляске. Поначалу непривычный к охоте — ведь за время долгих скитаний ему не у кого было научиться этому нелегкому искусству, — он мало-помалу перенял у своего старого наставника все его тайны, выказав при этом столько скромности и терпения, что его усилия не замедлили увенчаться успехом; вскоре мы уже не удивлялись, видя, как он шагает к ставшему для него родным дому старика, сгибаясь под тяжестью добычи, которая казалась непомерной для его полудетских плеч.
Все это раздражало нас, вызывало досаду, которую мы тщетно пытались скрыть, говоря, например, так: «Сын Ангамбы — самый сильный, самый смелый из наших юношей, если, разумеется, не считать Мор-Замбу…»
Почему мы так выделяли его? Доводов, оправдывающих законность и даже естественность такого к нему отношения, было у нас предостаточно. Случись кому-нибудь спросить об этом, мы ответили бы, что не знаем, сколько же в самом деле Мор-Замбе лет, что никто не может сказать, причислен ли он к тому возрастному разряду, который ему подобает, и что до тех пор, пока на этот счет будут существовать сомнения, юного пришельца невозможно мерить одной меркой с остальными подростками при оценке их способностей. Но не лучше ли было признать, что Мор-Замбу навеки отделила от других детей тайна его происхождения, проклятие более ужасное, чем проказа?