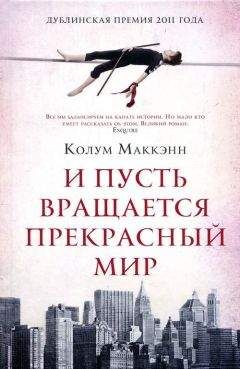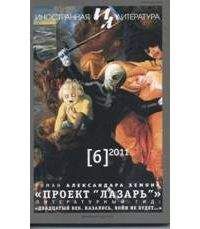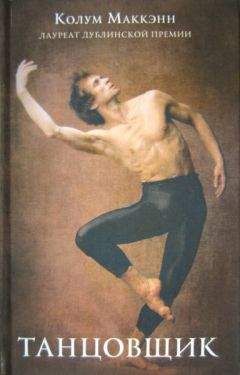— Кошмар.
— Ну, она старается хотя бы.
— Старается? Да она конченая. Как и все они.
— Вот и нет — они хорошие люди, — возразил Корриган. — Просто сами не знают, что делают. Или что делают с ними. Все дело в страхе. Понимаешь? Они трясутся от страха. Как и все мы.
Он пригубил чай, не стерев пятна с ободка.
— Страх витает в воздухе, — сказал он. — Как пыль. Ходишь, не замечая ее, не видя ее, но она все равно есть — оседает, покрывая все кругом. Ею дышишь. В ней возишься. Пьешь. Ешь. Но частицы страха настолько малы, что их не видно. И ты ими покрыт. Они повсюду. Говорю тебе, мы все напуганы. Просто задержись на миг: вот он, страх, обволакивает лица, липнет к языкам. Стоит забыть о нем — и нами завладеет отчаяние. Но останавливаться нельзя. Надо двигаться.
— Зачем?
— Не знаю… В том-то и дело.
— На кой тебе все это сдалось, Корр?
— Думаю, одних слов недостаточно, знаешь ли. Нужно облекать их плотью. Но в этом-то все и дело. Мне тоже нелегко, брат. Я вроде божий человек, но редко упоминаю Его. Даже когда говорю с этими девушками. Держу мысли при себе. Ради собственного душевного покоя. Чтобы унять совесть. Если начну думать вслух, то скоро сойду с ума, наверное. Но Он все-таки слышит. Бог слушает нас. Почти все время. Это так.
Осушив свою чашку, он подолом рубашки отер с нее пятно помады.
— Но эти девушки… Порой мне кажется, они верят сильнее меня самого. Во всяком случае, они веруют в очередную подъезжающую машину.
Корриган поставил перевернутую чашку на ладонь, покачал ее.
— Ты не пришел на похороны, — сказал я.
На ладонь пролилось немного чая. Поднеся ко рту, Корр провел по ладони языком.
Наш отец умер несколько месяцев назад. Прямо в университетской аудитории, где рассказывал о кварках. Такие элементарные частицы. Он намеревался завершить лекцию, несмотря на боль в левой руке. Эй, три кварка для мюстера Марка![21] Спасибо за внимание. Берегите себя. Спокойной ночи. Пока-пока. Нельзя сказать, чтобы новость меня потрясла, но я завалил Корригана телеграммами и даже дозвонился до полицейского участка в Бронксе, но там сказали, что ничего не могут поделать.
На кладбище я крутил головой, надеясь, что на узкой тропинке вот-вот увижу брата, может, даже в старом отцовском костюме, но он так и не явился.
— Народу было немного, — сказал я. — Маленькое англиканское кладбище. Рабочий с газонокосилкой. Так и не вырубил двигатель, пока шла служба.
Корриган все крутил чашку, словно рассчитывая на пару последних капель.
— Что из Писания читали? — спросил он наконец.
— Не помню уже, прости. А что?
— Неважно.
— А что бы ты сам выбрал, Корр?
— Ну, не знаю даже. Из Ветхого Завета, наверное. Что-нибудь первобытное.
— А конкретнее?
— Ума не приложу.
— Да брось, скажи.
— Не знаю! — заорал он. — Понял? Ни хуя не знаю!
Меня как ошпарило. Стыд бросил брата в краску. Он опустил взгляд, снова поскреб фарфор полой рубашки. Чашка громко пискнула в его руках, и я сразу понял, что никаких разговоров об отце у нас больше не будет. Корр перекрыл эту дорожку, быстро и твердо, вкопал пограничный столб: вход воспрещен. И у брата, оказывается, есть свой изъян, причем в такой глубине, что разобраться с ним он не в силах. Забавно даже. Корригану требовалась чужая боль. Исцелять собственную он не спешил. За эти мысли меня тоже кольнул стыд.
Молчание по-братски.
Корриган сунул скамеечку под колени, как деревянную подушку, и забормотал что-то нараспев.
Поднимаясь на ноги, обронил:
— Прости, что выругался.
— Ты меня тоже.
Встав у окна, он рассеянно подергал шнур жалюзи — открыл, закрыл. Внизу, где-то у опор автострады, истошно закричала женщина. Двумя пальцами Корриган раздвинул планки.
— Кажется, это Джаз… — сказал он.
Полосатый в оранжевом свете фонарей, мой брат одним прыжком пересек комнату.
* * *
Долгие часы безумия и бегства. Многоэтажки в плену у воровства и ветра. Нисходящие воздушные потоки творили собственную погоду. Пластиковые пакеты, подхваченные летним ветерком. Престарелые доминошники во дворе, под слоем летящего хлама. Хлопки обрывков полиэтилена, похожие на выстрелы. Стоит понаблюдать за мусором, и можно определить точную форму ветра. Пожалуй, на его игры действительно стоило поглядеть: законченные, яркие, сногсшибательные завитушки, замысловатые восьмерки, спирали и кольца. Порой клочок полиэтилена налетал на трубу или задевал сетку ограды, затем резко пятился, точно получив предупреждение. Ручки пакета схлопывались, и он падал от слабости. Деревьев нет, в ветвях не застрять. Мальчик из соседней квартиры высунул из окна удочку без лески, но ничего не поймал. Пакеты часто взмывали в небо, замирали там, словно озирая серую округу, а затем пикировали вниз: один вежливый реверанс — и летим дальше.
Живя в Дублине, я морочил себе голову, воображая, что где-то внутри меня прячутся стихи. Вытащить их оттуда не получалось: то же, что и перетряхивать грязное белье на людях. В Дублине всяк — поэт, возможно, даже террористы, что обеспечивали нам вечернее развлечение.
Я провел в Южном Бронксе неделю. Влажность была такая, что ночами нам с братом приходилось вдвоем наваливаться на дверь, чтобы закрыть ее. Подростки с десятого этажа сбросили несколько старых телевизоров на полицейский патруль внизу. Авиапочта. Копы ворвались в подъезд, орудуя дубинками. С крыши донеслись выстрелы. По радио передали песню о революции, загнанной в гетто. Улицы в копоти поджогов. Город ковырялся в мусорных баках, питался объедками. Мне срочно нужно было чем-то заняться. Я планировал найти работу, снять собственный угол, может, потрудиться над пьесой или устроиться в газету. Попадались объявления о вакансиях барменов и официантов, но этой дорожкой идти не хотелось: там одни чудилы да ирлашки-нищеброды. Я было договорился сидеть на телефоне, продавая всякую ерунду, но для этого требовалась неспаренная линия в квартире Корригана, а убедить мастера приехать в наш район не удалось. Нет, не такую Америку я себе представлял.
Корриган набросал мне список мест, которые обязательно стоило посетить: бар «Чамлиз» в Гринвич-Виллидж, Бруклинский мост, Сентрал-парк — не ночью, разумеется. Но денег у меня было кот наплакал. Приходилось наблюдать за тем, как разворачиваются сюжеты дней, из окна на пятом этаже. Мусор упрекал меня в бездействии. Зловоние уже достигло наших окон.
Подчиняясь предписанной орденом этике, Корриган тянул лямку, зарабатывал монету-другую за рулем фургона, принадлежащего местному дому престарелых. Бампер перетянут ржавой проволокой. Окна в пацифистских наклейках. Фары болтаются за решеткой радиатора. Мой брат пропадал в приюте почти весь день, ухаживая за немощными. Что другие считали суровым испытанием, для него было благодатью. В начале дня он заезжал за ними на Сайпресс-авеню. Почти все ирландцы да итальянцы, а также дряхлый еврей в сером костюме и ермолке, откликавшийся на имя Альби.
— Это сокращение от Альберта, — объяснил он. — Вздумаешь назвать меня Альбертом — надеру тебе задницу.
Несколько дней я провел с иссохшими старичками и старушками, по большей части белыми, — их можно было бы складывать, как инвалидные кресла. Корриган ездил еле-еле, чтобы их не растрясло.
— Ты водишь, как баба, — заметил Альби с заднего сиденья.
Корриган уперся лбом в руль и захохотал, однако не убрал ноги с педали тормоза.
Загудели машины сзади. Адский вой. Даже воздуху было душно от ненависти.
— Поехали, парень, поехали! — крикнул Альби. — Двигай эту развалину!
Корриган снял ногу с педали и потихоньку направил фургон к детской площадке у церкви Девы Марии,[22] где выкатил стариков в скудную тень.
— Свежий воздух, — сказал он.
Старики сидели чопорно, как стихи Ларкина.[23] Старухи казались потрясенными: оглядывали площадку и качали головами на ветру. Детишки съезжали с горок и карабкались по лесенкам, по большей части смуглые или чернокожие.
Альби умудрился откатить свое кресло в дальний угол, вытащил стопку бумажек. Склонился над ними, зачеркал карандашом. Я присел на корточки рядом:
— Что у тебя там, старина?
— Не твое собачье дело.
— Шахматы, что ли?
— А ты играешь?
— Еще бы.
— Есть разряд?
— Что?
— Пшел вон отсюда! Ты тоже баба.
Корриган подмигнул мне с края площадки. То был его мир, и брат его попросту обожал.
В приюте старикам собрали сухой паек, но Корриган перешел через дорогу в местную лавчонку за чипсами, сигаретами и холодным пивом для Альби. Желтый навес. Автомат со жвачкой тремя цепями прикован к рольставням. На углу — опрокинутый мусорный бак. Мусорщики бастовали еще весной, но до сих пор не все прибрали. По водостокам шныряли крысы. В дверных проемах угрожающе маячили парни в майках. Видно, знали Корригана, и он замысловато пожал им руки, заходя в лавку. Внутри задержался, потом вышел с бурыми бумажными пакетами. Один громила хлопнул его по спине, ухватил за плечо, притянул ближе.