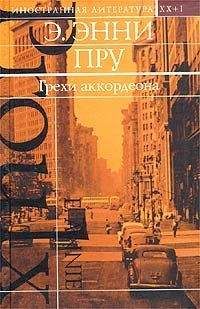В спальню вела непривычно крутая лестница. В крошечной комнате было душно и жарко, солнечный свет лился в западное окно прямо на узенькую детскую кровать у стены. Рядом стоял заляпанный чернилами стол с деревянным стулом, а над кроватью на самодельной подставке висело пневматическое ружьё. Окно выходило на покрытую гравием дорогу – наверно, это была единственная знакомая Джеку в детстве дорога. На стене у кровати висел вырезанный из старого журнала портрет какой-то темноволосой кинозвезды, выцветший от времени.
Внизу мать Джека набрала в чайник воды и поставила на плиту, а потом о чём-то тихо спросила у мужа.
Гардероб отделялся от комнаты выцветшей хлопчатобумажной занавеской и представлял собой небольшое углубление в стене с деревянной вешалкой для одежды. Там висели две пары джинсов, тщательно отутюженные и аккуратно свёрнутые, а на полу стояла пара старых ковбойских сапог – Эннис даже помнил их. В углу шкафа было что-то вроде тайника, в котором обнаружилась рубашка, задубевшая от долгого висения на гвозде. Эннис снял её. Старая рубашка Джека – ещё со времён Горбатой горы... На рукаве было засохшее пятно крови – его собственной, хлынувшей у него из носа в последний день на горе. Они с Джеком тогда в шутку боролись, и Эннис крепко получил коленом в лицо. Льющуюся ручьём кровь Джек заботливо остановил своим рукавом, но ненадолго: Эннис ударом кулака уложил своего «ангела-хранителя» в траву.
Рубашка показалась ему тяжёлой: внутри неё оказалась ещё одна, аккуратно заправленная рукавами в рукава верхней. В ней Эннис узнал свою старую клетчатую рубашку – грязную, с надорванным карманом и без пуговиц. Он думал, что потерял её давным-давно в какой-нибудь Богом забытой прачечной, а выяснилось, что это Джек стащил её и бережно хранил внутри своей рубашки. Они висели одна в другой, соприкасаясь, как две кожи. Эннис зарылся лицом в ткань и глубоко вдохнул, надеясь учуять легчайший аромат шалфея и дыма, смешанного с солоновато-сладким запахом тела Джека, но на рубашке остался только призрак запаха – призрак Горбатой горы, и единственную вещь, напоминавшую о ней, Эннис держал сейчас в руках.
Упрямый старик всё-таки отказался отдать прах Джека.
– У нас есть семейный участок на кладбище, и Джек будет похоронен там, – заявил он.
Мать, вырезая сердцевины у яблок острым зазубренным инструментом, сказала:
– Приезжайте ещё как-нибудь.
Трясясь по ухабистой дороге мимо сельского кладбища, обнесённого покосившейся проволочной оградой, Эннис бросил взгляд на несколько могил, пестревших искусственными цветами. Не хотелось даже думать, что Джек останется лежать на этом огороженном клочке земли посреди печальной равнины.
Несколько недель спустя, в субботу, Эннис собрал все лошадиные попоны с ранчо Стаутмайера и отвёз на машинную мойку, чтобы прополоскать под мощными струями воды. Убрав мокрые попоны в грузовик, он зашёл в магазин подарков Хиггинса и остановился у стенда с открытками.
– Эннис, что ты там в этих открытках выискиваешь? – спросила Линда Хиггинс, выкидывая в мусорный бачок использованный фильтр для кофе.
– Вид на Горбатую гору.
– Это где – в округе Фримонт?
– Нет, к северу отсюда.
– Я такие не заказывала, но на складе они должны быть. Мне всё равно надо заказать кое-какие, а заодно и тебе могу достать – хоть сотню.
– Хватит и одной, – сказал Эннис.
Когда тридцатицентовая открытка пришла, Эннис приколол её в своём трейлере латунными кнопками. Чуть ниже он вбил гвоздь, на который повесил вешалку с двумя рубашками. Отойдя на шаг, он окинул эту композицию взглядом, и глаза защипало от слёз.
– Джек, я клянусь... – начал он и осёкся. Джек никогда не брал с него никаких клятв и сам не был любителем их давать.
Примерно с этого времени Джек и начал ему сниться – молодой, кудрявый, с кривозубой улыбкой болтающий что-то про свои карманы. В снах появлялась и банка бобов с торчащей из неё ложкой, кое-как примощённая на бревне и будто нарисованная в аляповато-мультяшном стиле, нелепом и абсурдном до непристойности. Ручка ложки была похожа на рукоятку монтировки. Временами Эннис просыпался расстроенным, иногда – с прежним чувством радости и облегчения, а бывало, и на мокрой от слёз подушке и пропитанной потом простыне. Между действительностью и грёзами простиралась непреодолимая пропасть, но с этим ничего нельзя было поделать. А когда ничего нельзя изменить, остаётся только смириться и продолжать жить – с тем, что есть.
Чтобы изменить документ по умолчанию, отредактируйте файл "blank.fb2" вручную.