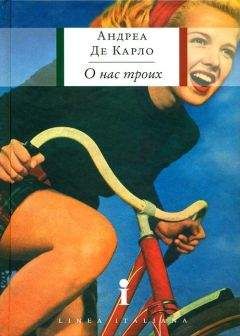Обнимаю.
М.
Полная нелепость, но Паола пришла в ярость, когда я сказал ей, что хочу поехать в Лондон, к Марко, и с ним — на фестиваль. В то серое утро мы сидели дома, и вроде бы все было тихо-мирно, и вдруг Паола обрушила на меня поток обвинений, упреков, обидных замечаний, которые копились под покровом ее спокойствия — так под покровом джунглей прячутся хищники. Внезапно выяснилось, что мы живем отвратительно, что я ни разу не предложил ей куда-нибудь съездить или просто сходить поужинать, вообще ничего приятного, и что мне интересны лишь мои картины, мои мысли и мои друзья, что с моей стороны эгоистично и даже оскорбительно. Выяснилось, что она все ждала, ждала, когда я хоть что-то ей да предложу, но так и не дождалась, и если я в кои-то веки решился преодолеть свою инертность, то лишь для того, чтобы поехать в Англию одному.
— От тебя убудет, если я слетаю на два дня к Марко, мы сто лет не виделись? — возмутился я.
— Убудет, потому что ты не хочешь ехать со мной, — ответила Паола, колючая и взбудораженная от обиды.
— А когда я предложил тебе поехать к Мизии в Париж, ты же и слушать меня не хотела, ты сопротивлялась отчаянно и упорно, пока она не улетела в Аргентину.
— Элеттрика была еще мала для таких поездок, — ответила она, не глядя на меня.
— Да это ты, ты не хотела, — сказал я, против своей воли повышая голос. — Ты напридумывала всяких глупостей про Мизию и настроилась к ней враждебно.
— Но сейчас-то разговор не об этом. — Паола с раздражением складывала кофточку нашей дочки.
— И об этом тоже, — возразил я. — Я уже потерял из-за тебя свою лучшую подругу, а теперь ты хочешь, чтобы я и лучшего друга потерял.
— Вот видишь? — сказала она. — Я вообще не в счет. Твои лучшие друзья! Прямо тайное сокровище какое-то! Я вот со своими друзьями встречаюсь вместе с тобой, а не езжу к ним тайком одна!
— Твои друзья до смерти скучные! — Я, как псих, махал руками и, как псих, ходил кругами по гостиной. — Я был бы рад, если б ты с ними тайком встречалась! Просто счастлив!
— Вот видишь, — закричала Паола, уже в слезах от ярости и обиды. — Видишь, какой ты? Видишь?
Думаю, с моей стороны это была попытка бегства, а то и попытка измены — как посмотреть, а со стороны Паолы — вспышка неуверенности в себе из-за всех моих рассказов о Мизии и Марко и из-за самой мысли, что существует еще одна, более интересная, сторона моей жизни, полностью ей недоступная. Выражай я четче свои мысли, то, наверное, сумел бы ей объяснить, почему мне хотелось одному поехать в Лондон, а будь я человеком зрелым — предложил бы ей поехать со мной. Но зрелым человеком я себя совсем не чувствовал и выражать мысли четче не мог, уж очень мне хотелось сбежать. В итоге я повел себя как настоящий трус: не сказал ей «Собирай чемодан», но и не поехал без нее, чтобы увидеть Марко и его новый фильм, узнать, как он ходит, что из себя представляет американка Эллен, фотограф, и как они живут, а стал оправдываться и дал задний ход. Я сказал Паоле, что не хотел с ней ссориться, что вовсе не хотел вычеркивать ее из моей жизни, делать ей больно и ссориться с ней; что моя поездка с Марко на фестиваль — не вопрос жизни и смерти, что мы можем поехать к нему вместе как-нибудь потом или еще чем-нибудь заняться вместе, надо просто это обсудить.
Постепенно она успокоилась, но поняла раз и навсегда, насколько мое желание иметь свое собственное эмоциональное и интеллектуальное пространство шаткое и некрепкое и как легко меня заставить от него отказаться. Человек просит другого человека сделать его счастливым, как говорила Мизия, а когда тот оказывается не в силах легко и непринужденно удовлетворить его просьбу, считает, что все средства хороши, чтобы добиться своего, будь то угрозы или слезы, или хлопанье дверьми, или крики, или дети. Я сдавал свои позиции раз за разом, отказывался от всего снова и снова, я сказал, что мне не нужны ни Лондон, ни Марко, ни Мизия, ни кто другой, а я хочу спокойно счастливо жить с ней и с нашей дочкой.
В общем я не поехал к моему лучшему другу и с ним — на фестиваль в Брайтон, и даже не стал ему звонить, чтобы сообщить об этом, а только написал путаное, неискреннее письмо — сплошные оправдания да отговорки. Марко не ответил.
Но шестого октября я купил все английские газеты, какие были в газетном киоске в центре, и седьмого и восьмого октября — тоже. В «Таймс» и «Обзервер» — восторженные рецензии на фильм Марко: «удивительная выразительность и непредвзятый взгляд на вещи» и «фантастическое умение использовать зрительные образы позволяет ему исследовать жизнь человека и мир в целом, на редкость необычно рассказывая при этом о себе».
О фильме говорили скорее как об авторском, чем как о документальном; я пытался понять, что же все-таки было в коробках с пленкой, разлетевшихся по откосу в Перу, когда случилась авария из-за радуги, что за работу проделал Марко за те три месяца, что сидел и монтировал фильм. Еще я пытался понять, как повлиял на конечный результат неправильно сросшийся перелом ноги, как — переживания насчет Мизии и сына и как — то, что рядом с ним находилась американка Эллен, фотограф. Я пытался понять все это и не находил мужества позвонить ему, единственное, на что меня хватило, — написать ему второе письмо, с отвлеченными, невнятными комплиментами.
Марко опять не ответил; постепенно я понял, что между нами опять прервалась связь, что уже случалось в прошлом, и на этот раз виноват однозначно был я.
Время от времени мне попадались запоздалые заметки о нем в итальянской прессе, наконец-то заметившей его перуанский фильм, успех, награды в Англии и по всему миру; теперь из него пытались сделать предмет национальной гордости, хотя Марко уже много лет как уехал за границу, потому что задыхался в Италии. Иногда я вроде даже начинал завидовать его теперешней жизни, насыщенной событиями, встречами, сюрпризами, — не жизнь, «а сад тысячи возможностей», как он сам говорил. Иногда мне вдруг хотелось ему позвонить или хотя бы написать по-настоящему искреннее письмо, а не такое, как первые два, но я так этого и не сделал.
Я попробовал дозвониться до Мизии в Аргентину, узнать, родила ли она и что вообще происходит, но к телефону в Буэнос-Айресе подходила прислуга, неизменно отвечавшая: «Синьоры нет дома». Я поражался, что Мизию называют синьорой, и все гадал, действительно ли она стала синьорой: изменились ли ее одежда, движения, речь, взгляд. После нескольких попыток я смирился с мыслью, что и между нами тоже прервалась связь и отчасти чувствовал себя обиженным, отчасти даже испытывал облегчение от мысли, что никто не будет заглядывать мне в жизнь, бередя душу.
А жизнь моя имела и приятные стороны, были в ней свое тепло и надежность: так в холодную погоду приятно окунуться в горячий источник. Маленькая Элеттрика росла, я потихоньку учился с ней общаться и даже получал от этого удовольствие; Паола делала все для того, чтобы я мог работать, и тормошила меня, когда я поддавался лени, скуке или полностью терял интерес к жизни. Мой галерист стабильно продавал картины, и цены на них медленно росли, пусть и без прямой привязки к динамике арт-рынка.
В феврале мы с Паолой решили поселиться где-нибудь под Миланом, чтобы места было больше и чтобы наша дочь росла на свежем воздухе, на природе. Мы изучали предложения, совершая вылазки на север и восток, на юг и запад от города, пока наконец Паола не нашла домик в сорока пяти минутах езды на север от Милана, там, где еще оставались поля, а в доисторические времена были болота. Никаких особых красот, да и природа не сказать, чтобы нетронутая рукой человека, но там было тихо, и у меня появился гараж-студия для работы; унылый безотрадный вид из окна полностью соответствовал атмосфере, царившей в нашей семье.
В тот день, двадцатого декабря позапозапрошлого года, в нашем новом доме было жарко и душно, потому что мы включили газовое отопление на полную мощность, но я продолжал работать, чувствуя, как от жары учащается дыхание, а изредка приходившие на ум мысли топчутся на месте. Этажом ниже дочка прилипла к телевизору, не в силах оторваться от рекламы, а мой младший колотил по полу своими игрушками, какими-то японскими мутантами, и моя жена Паола все повторяла ему: «Тише, тише», да таким нудным тоном, что в ответ он стучал еще сильнее. Из окна моей студии был виден слежавшийся снег в саду; я смотрел на него и думал, имеет ли жизнь вообще и моя в частности хоть какой-то смысл; запах акриловой краски усиливал тошноту, которая волной подкатывала к горлу.
Зазвонил телефон на высоком столике, я не обращал на него внимания, пока Паола не крикнула снизу: «Ливио, ответь, пожалуйста» — точно таким же тоном, каким разговаривала с детьми.