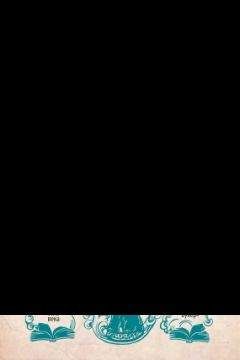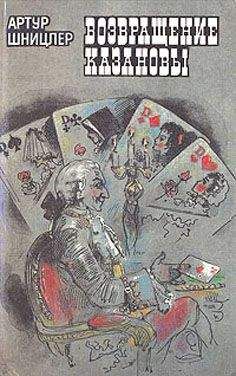– Мне не больно, – скрипела зубами она. – Черт бы побрал тебя, Дон! Как еще тебе втолковать, что больно уже быть не может. Может быть только пусто…
Я пытался внушить себе, будто мы потеряли лишь то, чего у нас не было. От такой омерзительной лжи на душе делалось во сто крат хуже. Утратить младенцем родителей оказалось куда меньшим злом, чем лишиться младенца, так и не ставши родителем. Что-то внутри меня понимало: нас настигла непоправимость. Чем отчетливее я это осознавал, тем больше твердил, что все поправимо.
– Ты скоро поправишься, и мы все исправим.
Анна будто не слышала. Она теперь вообще меня плохо слышала. А когда тебя плохо слышат, все, что ни скажешь, представляется глупостью даже тебе самому.
– Я очень люблю тебя, Дон. Но это не значит, что тебе надо лезть вон из кожи, чтобы я тебя возненавидела. Лучше просто молчи, чем пороть ерунду. Я в порядке. Скоро поедем домой.
Чтобы дом был по-прежнему домом, она принесла в дом щенка. Так и сказала: “Чтобы дом был по-прежнему домом”.
Не иметь детей – это не самое страшное, думал я. Самое страшное – не иметь свою Анну. Рисковать ее жизнью ради рождения ребенка я ни за что бы не стал. Настолько не стал бы, что, реши вдруг рискнуть сама Анна, я бы к ней не притронулся.
Врач сказал год-другой нам не пробовать:
– Какое-то время жена ваша будет стерильна. Если внутри у нее сейчас что и живо, так отзвук беды. Покуда она его слышит, вам лучше не торопиться.
– У нас будет шанс?
– Это уже не ко мне. Ближайшая церковь всего в двух кварталах отсюда.
В окне белого дома белого-белого города сыпался белыми крошками снег. На него боязливо таращился, замазав стекло островком потной мути, щенок. А когда не таращился, он кусал нас за пальцы, пищал по-цыплячьи и мелко дрожал, рисуя на льду подоконника лужу. У себя в конуре он вмиг засыпал, щупая храпом пространство и проверяя в нем наше присутствие.
– Почему Арчибальд? – спросил я, когда принял комок из рук Анны, стоя у дверцы такси, на котором она рано утром отправилась “на процедуры”. Не прошло получаса, как меня с улицы вызвал клаксон. – И почему спаниель?
– Во-первых, уже откликался на Арчи. Во-вторых, родителей звали Аркетта и Теобальд. А спаниель – потому что родился в Испании. Как только я расплатилась, он ухватил меня тут же за палец, а потом грыз всю дорогу.
– Как-то невежливо для англичанина.
– Янки. У английской породы морда длиннее и не такая красивая.
– А эта, выходит, красивая?
– Это даже не морда. Это лучше любого лица.
– Не пытайтесь очеловечить собаку, чтоб не вскормить людоеда.
– Цитата? Или ты сам такой умный?
– Так утверждают заводчики.
– Для чего же тогда заводить в доме пса, если не видеть в нем человека? Принеси, пожалуйста, швабру. Кажется, нашему лопоуху приглянулись кроссовки хозяина.
– У него что, запой?
– Из него льется радость.
– Судя по озеру, нам достался самый радостный в мире щенок.
– Так возрадуйся!..
Из-за вывиха Анне пришлось просидеть дома почти шесть недель, а потому у меня было вдосталь возможностей, чтобы возрадоваться. Дважды в день я выгуливал Арчи с совочком, но не так чтобы преуспел. Легче было заставить петь хором портреты в гостиной, чем выучить псыкалку справлять свои нужды вне дома.
– Скажи спасибо, что он еще не умеет бегать по лестнице. Весь бы дом заминировал, – веселилась жена, наблюдая за тем, как я подтираю улики – пластилиновые скульптурки и перламутровые зеркальца.
– Тебя обманули, – заметил я Анне. – Белая клякса на шее – не отбраковка, а колоратка священника. С одной лишь поправкой: религия этого падре – обжорство.
– У него такой аппетит, потому что он счастлив.
– Счастлив он, когда жрет человечью еду. А когда корм, то несчастлив.
– Хочет быть человеком. Быть собакой его не устраивает.
– Оттого он кусает хозяев?
– Кому ж еще ему делать больно, когда он несчастлив! Наша боль – это боль наших близких. Все как у людей.
Благодарение псу, все у нас было, как у людей.
Как у богатых людей, у нас появилась служанка.
– Каталина мне вроде кормилицы. Настоящую я, конечно, не помню, но когда хочу вспомнить, припоминаю всегда Каталину. Наша дальняя родственница. Терпеть не могла мою мать, зато обожала меня. Работала в детском саду, куда меня сдали в три года, и перестала работать, едва мне исполнилось пять. Пришла к нам домой и сказала, что будет мне матерью, если сама мать не против. Так меня полюбила, что отказалась от места, где уже не любила детей. Я росла с ней почти до двенадцати лет. Потом мать умерла, и Каталина ушла. Жить под одной крышей с мужчиной без женщины посчитала она неприличным. Но это была отговорка: отца она очень боялась. Больше даже, чем боготворила меня. Была и иная причина: она полюбила другого. Мальчишку, который был изгнан из нашего дома. Он потом утонул. Старше меня лет на десять. Работал у нас порученцем отца. С малолетства крутился в их бизнесе, а как запахло печеным, отец его вышиб коленкой. Каталина его приютила. Ее не расспрашивай, что там да как – запретная тема. Даже я не рискую. Умер и умер. Может, и к лучшему, что утонул, а то б стал убийцей или его б самого подстрелили. Мизандаров его откровенно не жаловал. Говорил про него: за душой ни гроша, а на душе – ни греха, ни огреха. Такие, как он, говорил, могут планету всю к стенке поставить и перебить не поморщившись. Им, говорил, подавай только правду и цель, да еще одной дыркой в мишени. Не удивлюсь, говорил, если этот красавец сам родню свою и порешил. Мать с отцом у него угорели в машине. Дело было зимой. Кто-то им сообщил, что мальчишка идет пешедралом по перевалу, утопая по пояс в снегу. Перед тем вышла ссора: мать подралась с отцом, а отец надрал уши сыну. Слухи ходили, что у нее завелся любовник, а мальчишка прознал и донес эту новость отцу, но в итоге сам же и поплатился. Только он не сбежал, как подумали, а скрылся в сарае, как потом рассказал. Посреди ночи машина застряла в снегу, печка была не в порядке, и они угорели. Мой папаша его приютил: близко знался с родителями. Не удивлюсь, коли сам рога дружку и наставил.
– Ну у вас тут, в Испании, страсти!
– Наша главная страсть – пожертвовать жизнью ради какой-нибудь страсти. Лучше жизнью кого-то другого. Пойдем на корриду, поймешь, что у нас жажда крови в крови.
На корриде я понял, что в крови у меня появилась частица испанской крови.
– Дело не в детской романтике и не в Хемингуэе. Дело в смертельной опасности и заносчивой, медленной грации, с которой встречает ее матадор.
– Изящность убийства?
– Изящность смертельной борьбы. Два существа, одно из которых есть сила и ярость, а другое – отвага и воля.
– Подлая воля к убийству.
– Честная воля борьбы.
– Если б я верила в мистику, я бы решила, что причина здесь в имени. Похоже, ты с ним сроднился настолько, что жаждешь дуэли.
Разметав по столу содержимое коробка, Анна строила башню из спичек – рядом с той, что была уже возведена из кубиков рафинада. На нее посягал языком неуклюже-порывистый Арчи. Я держал щенка на руках и сносил кое-как его нежелание отцовства. Словам супруги значения я не придал: лучше всего мы не слышим предвестия.
– Вот стервец! Все-таки развалил.
Пес возбужденно облизывал морду.
– Сразу две Вавилонские башни. Куда ты смотрел? Ему нельзя сладкого. – Она облизнула щенку его нос. – Мой сладкий малыш.
Я облизнул ее губы:
– Моя сладкая врушка.
– Я тебе не соврала. Так все и было: она подошла ко мне, чтобы обнять у всех на виду. Мы не сказали ни слова, но друг друга мы поняли.
Разговор у нас шел не о ком-нибудь, а о Пенелопе Крус. Несколько лет назад случай свел их в парижской “Ротонде”. В кафе загнал Анну ливень. Едва она выбрала столик, скинула туфли и заказала себе капучино, как разглядела в другом конце зала родное лицо – из тех, которые любишь лишь издали и не мечтаешь увидеть вблизи. Актриса сидела в компании приятелей и часто смеялась. Позабыв про свой кофе, Анна с нее не сводила восторженных глаз, а потом взяла и расплакалась.
– Хоть она и смеялась, на душе у нее было тоскливо. Я это почувствовала. В ней скопилась целая бездна печали, и она над ней хохотала. Она притворялась, но при этом была столь совершенна и подлинна, что я не сдержалась. Я была так несчастна, что не могу поделиться с ней счастьем, нахлынувшим из-за того, что она настоящая – настоящей всего, что когда-либо было печалью, несчастьем, было, есть или будет бедой, – что я разрыдалась, как дура. А она встала из-за стола, подошла ко мне и обняла. И никаких слов нам было не нужно.
– Будь я писателем, сочинила бы детектив, где убийца – язык, – сказала жена в другой раз, когда Арчи слизнул с отрывного листка имя профессора, с которым она должна была встретиться в Вене.
Я опять ее плохо услышал: спустя месяцы кокер слизнет последнюю строчку записки, которую Анна оставит мне перед отъездом в Марокко: