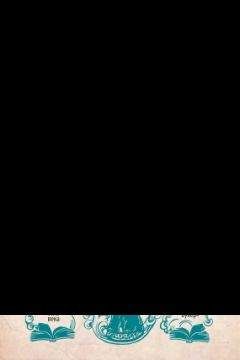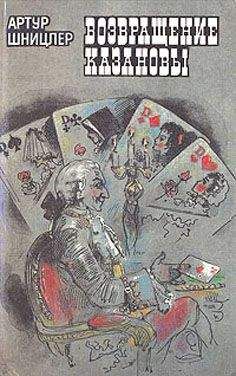Я опять ее плохо услышал: спустя месяцы кокер слизнет последнюю строчку записки, которую Анна оставит мне перед отъездом в Марокко:
Решила тебя не будить
(одного поцелуя оказалось уже недостаточно).
Не скучай. Жди сюрприза. Станет
совсем невтерпеж, потерпи чуть еще.
Хоро……………………………………
Что в этом хоро…? Похоронка или посулы хорошего? Теперь не узнать. Проклятье чернил “Монтеграппа”. Ароматическая игрушка, приобретенная в подарок на именины. Кем? Да мною и купленная! Важнейшие глупости в жизни мы совершаем собственноручно, чтобы потом сетовать на судьбу».
Дон делает перерыв.
– Мне надо отлить. Посидишь тут в засаде или отвалишь к себе?
– Посижу.
Пока он струит, я хлебаю пивко. Наш альянс – сообщающийся сосуд: сколько убыло, столько и прибыло.
– У меня тут мыслишка закралась. Растолкуй мне про башни.
Он усмехается:
– В смекалке тебе не откажешь. Можешь взять на заметку: была у нее такая привычка – строить из карт, шоколадок, конфет и монеток макеты библейской легенды. Вавилонское столпотворение в миниатюре. Пирамидки бессмыслицы, разрушавшиеся от громкого звука или собачьего языка. Это ее умиляло: смотри, говорила она, как все хрупко в нашем сознании. Стоит ему возомнить, что точка опоры им найдена, как расчет идет прахом.
– Чему же она была рада?
– Разоблачению гордыни. Когда-то она, как и я, пыталась учить языки. Но чем больше учила, тем больше запутывалась. Потом поняла, что ей не хватало любви.
– Поняла это после знакомства с тобой?
– Не кричи.
– А ты не бубни. Я тебя плохо слышу.
– Почему, когда человек плохо слышит, ему хочется, чтобы его услышали все?
– По той же причине, что тот, кто плохо умеет любить, хочет, чтобы его все любили.
– Твоя правда. Так со мною и было – до Анны.
– А зачем ты ей изменял?
– Ты и это пронюхал? Или ткнул наугад пальцем в небо?
– Ткнул, а теперь и пронюхал.
– Ты мастак выворачивать руки. А слабо будет их на себя наложить?
– И не подумаю. Самоубийцей становится тот, кто воспринимает себя чересчур уж всерьез. Я для себя – не всерьез. Для меня всерьез ты.
– Фортунатов сумел.
– Для меня он был тоже всерьез.
– Перед тем, как она умерла, у меня во сне выпали зубы. По соннику – к смерти, болезни, беде.
– Почему ты с ней не поехал?
– Не позволила. Анна редко мне позволяла поехать куда-то с собой.
– Тебя это не настораживало?
– Я должен был верить. Так она меня проверяла. Иногда исчезала внезапно. Как-то вышла за сигаретами, а через три часа позвонила и предложила поужинать на пьяцце Испания. Я спросил, где это, ответила: в Риме. Туда я и полетел… Появлялась Анна столь же внезапно: думаешь, что в Копенгагене, а она у тебя за спиной. Волшебство, да и только.
– Но тебе к нему было не привыкать.
– Годы с Факирским были лишь тренировкой. Фокусы – не волшебство.
– Повторять за мной не обязательно. Довольно, что я за тобой повторяю.
– Признайся, зачем ты ко мне привязался? Чтобы снова влюбиться в жену?
– Я Тетю и так до колик люблю.
– Неправда. Ты ее любишь до первой попавшейся Литературы. Оттого и торчишь, запершись в кабинете. Ты даже не помнишь, чем она у тебя заболела, когда чуть было не умерла. Это ты называешь любовью до колик? И нечего мне заливать, что ты спас ее, погубив мою Анну! Ты погубил мою Анну, чтобы спасти свою шкуру.
– Только что Дон Иван приговорил себя к высшей мере.
– Погибнуть в тысячный раз – с меня не убудет. А тебя вот совесть замучает. Как мучает из-за того, что ты за ними следил.
– За кем?
– За Светкой своею и Германом.
– Гнусный поклеп!
– Не отпирайся: ты ведь таскал меня за собою.
– Я не следил, а… придуривался. Чтобы почувствовать ревность, чтобы ее почувствовал ты, чтобы я написал тот кусок про тебя и Альфонсо.
– Ну и как, написал?
– Руки еще не дошли.
– И давно ты ревнуешь?
– Недавно.
– Давно. Твоя ревность – не ревность, а ущемленное самолюбие. Кстати, ты в курсе, что, пока гарцевал по Испании, супруга твоя ездила с Германом в Зеленоград? На днях они снова смотались туда, средь белого дня, ничего тебе не сказав.
– И что это значит?
– Не имею понятия. Сам я таскался с тобою.
– Так откуда ты все это знаешь?
– Земля слухами полнится. В общем, жди, приятель, сюрприза.
– А ты, братец, сволочь!
– Уж какой уродился. Немудрено с такими родителями.
– Жаль, нельзя тебе морду набить.
– Мне-то что! Тебя угнетает, что нельзя набить морду Герману. Как-никак он святой.
– Он с ней спит?
– Я не знаю. Клянусь. Но если святой, то не так оно вроде и страшно, а?
– Страшно-то тогда, что и он не святой. Разве святой предаст дружбу?
– В агиографии я не силен. Но, коли тебе интересно, поделюсь своим мнением: ты сам до пупа замарался. Следить за женой и собственным другом – предательство. Похуже измены с Долорес.
– Заткнись! Сам-то ты Анне не изменял?
– Изменял. Но только затем, чтобы не изменять.
– Это уже что-то новенькое!
– Случилось всего-то три раза, когда Анна бывала в отъезде.
– А где?
– Не помню. И точно не знаю. В детали я не вдавался.
– Понятно. Дон Жуан – это тот, кому невозможно наставить рога!
– Зря иронизируешь. У меня за плечами семь сотен лет, и все без рогов.
– Ага!
– Что – ага? Надумал испортить мне биографию? И не пытайся: моя репутация крепче твоего мстительного пера.
– Продолжай про измены.
– Да тут и рассказывать нечего: тосковал, лез на стенку, изнемогал от желания. Трижды видел подобие и уподоблялся скоту.
– В каком смысле – подобие?
– Такие же ноги. Такие же волосы. Такая же точно походка.
– Так любил ее всю, что кидался на части?
– Как взбесившийся скот.
– Анна про то не узнала?
– Анна про это молчала. Мне не хотелось, чтоб знала. Но она редко чего-то не знала.
– Опиши ее. Ну, какой она была в жизни.
Придвигаю Дону блокнот, отхожу, чтоб ему не мешать, и ложусь на диван – в той же позе: подложив под голову руки и скрестив лодыжки на подлокотнике. Потом закрываю глаза. Открывать мне их не обязательно: я читаю вслепую.
Анна была очень ловкой. Она умела лазать по деревьям, скакать на лошади, нырять с вышки, сыпать скороговорками, рисовать сахаром по столешнице и пускать изо рта кольца дыма. Могла поворачивать ключ ногой и завинчивать каблуком шурупчик на сумке. У нее был дар ладить с собаками, официантами и стариками, засыпать в любой час и в любом положении и всегда просыпаться с улыбкой.
Анна была неуклюжей. Она колотила тарелки, вырывала с кишками розетки из стен, спотыкалась о пуфик и набивала шишки даже о тени. Она не дружила с электроприборами, кранами и телефонами. На нее ополчались пепельницы и горшки. От нее убегали ночные рубашки и тапочки. Попав в ее руки, сковорода начинала плеваться, а пылесос превращался в удава.
Анна была смешной. Спросонья она косолапила. Спьяну вязала. С испугу икала, а с голоду больно кусалась. Но спросонья она косолапила.
Очень серьезной была моя Анна. Особенно если шутила.
Рядом с ней на любое фатальное утверждение (мир бессмыслен, все продается и покупается, что ни делай ты в этой жизни, все к худшему) у меня был один и тот же ответ: ну и что? Потому что с ней рядом все было к лучшему, даже если мир катился в тартарары.
Белая лошадь на полном скаку – вот что такое была моя Анна.
И она была – тайна…
– Пожалуй, достаточно.
Дон поднимается из-за стола.
– Что теперь?
– Если хочешь, могу рассказать про Созополь.
– Про меня и про Светку в Созополе?
– Вы здесь уже ни при чем.
– Мы с Тетей были там прошлым летом.
– Что-то я вас не видел.
– Ты тогда еще не таскался за мной.
– Зато нынче могу повести за собой. Ты готов?
Я даю ему руку.
* * *
«Звонок от Анны раздался в шесть тридцать утра. Я так грезил о море во сне, что проснулся в ракушках.
– Соскучился? Хочешь ко мне? Я в Бургасе.
– Что ты делаешь в Бургосе?
– Не в Бургосе, Дон, а в Бургасе. Вернее, поблизости. Раскопала чудесное место. Слушай: из Севильи есть чартер до Праги. Там пересадка и сразу – в Бургас. Буду ждать тебя в зале прилета. Сейчас же звоню Каталине… Чего ты молчишь? Ты заснул?
– А я просыпался?
– Ты проснулся и уже мчишься в ванную. А если не мчишься, я отменяю такси и подаю на развод.
– Какое такси?
– Через двадцать минут будет у наших ворот. И не забудь за меня чмокнуть Арчи и оставить ей деньги. Положишь под вазу.
– Кому деньги? Какую?
– Каталине. Что на комоде.
Оставалось только понять, что такое комод, и запрыгнуть в такси, чтобы успеть на посадку.