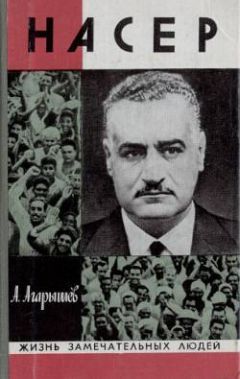Но стоило Арье появиться возле душевой, как его заставляли пройти первым. Никакие уверения, что он может постоять как все или пройти пусть не сороковым, но хотя бы двадцатым – не действовали! «Ло{(ивр.) Нет!}, абеле!»
Эван, не размыкая век, улыбнулся. Как нежно звучит это произведенное от «ав», «отец», слово – абеле! Как, наверно, приятно было Арье слышать его каждый день от этих кудрявых парней в выгоревших ковбойках, в застиранных штанах, снизу доверху усеянных карманами, в вязаных ермолках, куполом покрывающих всю голову.
«Я здесь неделю, – бормотал потрясенный Арье, – и у меня уже крыша едет от жары и неудобств, а они месяц – и ничего. И главное – ни малейшей ссоры, да что там ссоры, хотя бы раздражения по отношению друг к другу! Ни одного «вас здесь не стояло!»
Последние слова Арье произнес по-русски, затем перевел на иврит, и, наконец, чтобы совсем уж ясно было, – на английский, но Эван все равно ничего не понял.
«И главное, обрати внимание, – захлебывался Арье, – с какой любовью они друг на друга смотрят!»
Эвана и самого поразил один эпизод в ночь перед штурмом поселения, когда все они, опасаясь, что войска вломятся раньше срока и застанут их врасплох, рассредоточились по разным строениям. Они с Арье оказались в большом помещении, где кроме них находилось еще человек двадцать. Эван расстелил спальник, а Арье начал надувать свой матрац. Поскольку «оранжевые» собирались оказывать решительное, хотя и ненасильственное, сопротивление, была велика вероятность, что в результате они окажутся в одном конце страны, а вещи – в другом. Все стали писать типексом{Белая паста для замазывания ошибок, соответств. русск. «штрих», «корректор».} свои координаты на рюкзаках. Поскольку пузырек был один на всех, право откупорить его предоставили, разумеется, Арье. Затем пузырьком воспользовался сидящий рядом с Арье Эван. И когда пятый или шестой ешивник, тряся пейсами, аккуратно выводил на своем рюкзаке белые каракули, Арье неосторожно потянулся и произнес: «Спатеньки хочется!» Тотчас, несмотря на его же протесты, свет был погашен, и далее работа велась при марсианском свечении мобильников.
Среди этих парней поначалу особняком держались несколько русскоязычных ребят, бывших питомцев Иегуды и Арье из «Зот Арцейну». Они приехали вместе с поселенцами отстаивать Гуш-Катиф, а потом двинуться на защиту Канфей-Шомрона, их alma mater. Не прошло и нескольких дней, как они полностью смешались с ешивниками, натянули кипы, кои с таким удовольствием в школьные годы чудесные срывали, едва выехав из поселения, и понемногу начали подражать ешивникам во всем, даже в походке.
Всех очаровали молодые поселенцы – и Эвана, и Арье, и русскоязычную молодежь. Всех, кроме солдат. Те особой любви не проявили – за руки-за ноги и в скотовозки. Так что кое-какой урок в Гуш-Катифе «оранжевая» молодежь получила. В Канфей-Шомроне уже по-другому было.
Ну вот, Эваново воображение и подарило ему долгожданный самарийский рассвет. Утро в Канфей-Шомроне. На въезде в поселение – баррикада из бетонных блоков. На улицах – резиновые шланги, утыканные гвоздями, горящие покрышки, доски и тюки с сеном. Люди заперлись в домах. На дверях белеют листы, на которых написано: «Солдат, полицейский, остановись! Если ты постучишь в эту дверь, то станешь соучастником преступления. Не делай этого. Мы отсюда никуда не уйдем. Нам некуда идти». На синагоге плакаты «Нас не выдавишь!» и «Нас не уведешь!» Выдавят и уведут. Но пока никто из защитников Канфей-Шомрона не хочет в это верить. Вокруг крыши синагоги натянута колючая проволока. Рав Фельдман, Эван и еще человек сто пятьдесят на крыше. Натан – внизу, в самой синагоге, ни на шаг не отходит от отца, основателя нынешнего еврейского квартала в Хевроне, восьмидесятипятилетнего Давида Изака, который приехал сюда, чтобы участвовать в этой, возможно, последней в его жизни, битве за Эрец Исраэль. Глядя на парней, которые через люк выбираются на крышу синагоги, Давид говорит Натану: «Да мы ведь уже победили! Посмотри, какую потрясающую молодежь мы вырастили!» И ни отец, ни сын не ведают, что первому осталось жить четыре месяца, а второму – пять. А стоящий рядом самый старый из жителей поселения, Цвика Штейн, отец Менахема, с восторгом восклицает: «Такое ощущение, что я вновь перенесся в сорок восьмой год, и мы празднуем провозглашение Независимости»! Давид Изак вспоминает, как он провел день провозглашения Независимости, и никакого восторга не испытывает.
В поселение вламывается бульдозер. Баррикаду он сдувает, точно щепотку пыли, а вслед за тем сколупывает ворота. Солнце устремляет свой равнодушный объектив на мечущийся в последней агонии Канфей-Шомрон. Жителей выводят из домов. Дети визжат и кричат, женщины плачут. Солдаты и солдатки тоже плачут. Утирая слезы, они волокут поселенцев в автобусы. Треск разбитого стекла. В одном из автобусов жители поселения высадили окна и выскакивают на волю. Солдаты и полицейские бросаются к ним, те бегут к своим домам. В последний раз.
Эван сжимает кулаки. Спуститься и ввязаться в потасовку? Там он уже ничем помочь не может. Его место здесь, на крыше. А солнце продолжает все бесстрастно снимать на свою видеокамеру.
Поселенцы, которым удается вырваться из рук полиции, баррикадируются в синагоге. У пацанов в руках зеркальца, в которые перед молитвой обычно смотрят, чтобы убедиться, что тфилин правильно надеты. Теперь они этими зеркальцами через открытые окна пускают зайчики в глаза полицейским и солдатам, чьи отряды, точно годовые кольца, окружают синагогу сердце поселения.
К синагоге подгоняют подъемный кран и пытаются опустить на крышу клетку с солдатами. Ребята дружно ее отталкивают, кричат: «Нельзя! Крыша провалится!» Удивительнее всего то, что это действует. Сами, без подсказки, армейские бонзы сообразить не могли. Должно быть, угадав мысли Эвана, стоящий рядом Иегуда Кагарлицкий произносит по-русски: «Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона!» Затем, в ответ на вопросительный взгляд Эвана, коряво переводит это на иврит.
Клетку убирают, а вместо нее подкатывают водометы, подвозят штурмовые лестницы. ЯСАМники надевают защитные маски. Эван, чувствуя, как крыша под ногами вздрагивает, в ужасе смотрит себе под ноги. Первая мысль – землетрясение! И вдруг он снизу слышит шепот. Это шепчет синагога – его любимая синагога, где он почти физически ощущал Вс-вышнего, куда порой ночью заходил, чтобы раскрыться перед Б-гом и разобраться в самом себе. Сколько раз он твердил Вике: «Наши сыновья будут обречены на счастье – ведь на восьмой день жизни они войдут в завет с Творцом Вселенной в самой прекрасной синагоге, какая есть во Вселенной!» Теперь эта синагога молит: «Эван, пожалуйста, защити меня! Они хотят меня убить! Эван, я жить хочу!» А потом из водометов в лица защитникам хлещет вода, как впоследствии выяснится, смешанная с едкими моющими средствами. Стекая по каменным плитам, она кажется Эвану потоком слез. А когда пять часов спустя все будет кончено, и обмазанные тухлыми яйцами и белой краской ЯСАМники, осыпая тумаками, потащат его в скотовозку, в беснующейся какофонии почудится ему крик: «Эван, прощай!»
* * *
– Хорошо, теперь я тебя слушаю, – устало произнес Мазуз, растянувшись на оттоманке.
Камаль стоял в дверном проеме, в шикарном харрис-твидовом пиджаке, вымазанном кровью, в потерявших свой вид дорогих кожаных ботинках. Дверь осталась открытой, и лишь в глубине залы маячили фигуры Раджи и Аззама – сдерживающий фактор на случай, если пленнику вздумается совершить попытку к бегству.
– Ну же, – повторил Мазуз, но Камаль молчал, переминаясь с ноги на ногу.
Мазуз, от досады прижав большой палец к среднему, громко щелкнул.
– Опять начинаешь...
И тогда Камаль заговорил. Впервые, если не в жизни, то уж точно за долгие годы, это была речь не робота, а живого человека, расцвеченная болью, страхом...
– Да, аффанди Таамри не посвящает меня в свои замыслы, но уши мои раскрыты, и я не разучился еще складывать puzzle из фактов. Не раз говорил он при мне по телефону, и я понял – аффанди Таамри хочет купить тот участок земли, на котором стоял Канфей-Шомрон. Сделка вот-вот будет оформлена. Может, он уже купил эту землю через подставных лиц – я не знаю. – Хотя...
Он осекся.
– Ну! – вскричал Мазуз.
– ...Я слышал, как он говорил тогда по телефону: «И тогда поселенцы, устыдившись, добровольно откажутся возвращаться».
– Когда «тогда»? – не понял Мазуз.
Камаль пожал плечами.
– Вот этого я действительно не знаю.
Наступило молчание.
– А я знаю, – подытожил Мазуз. – Поселенцы устыдятся, если мы нападем на них на плато Иблиса, а солдаты нас перестреляют, а их спасут.
Мазуз соскочил с оттоманки и нервно заходил по комнате. Казалось, еще немного, и он воспламенится. А вот Камаль, только что предавший того, кому служил всю жизнь, как-то весь обмяк и, казалось, едва держится на ногах.