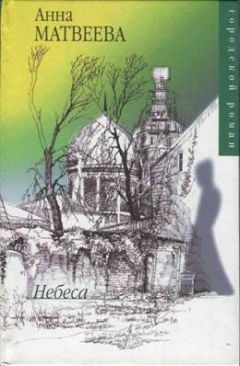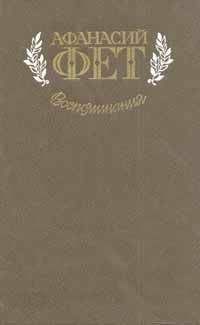— Вера, ты всегда знаешь, чем утешить, — укоризненно говорил Артем, но Вера видела: он ей благодарен.
В последние месяцы они и в самом деле жили словно брат с сестрой. Вначале пост, дело в принципе привычное, а потом — словно бы еще один пост, установленный самим Артемом. «В монахи собрался?» — много раз хотела Вера спросить у мужа, но сдерживалась. Поэтому сдержалась и теперь — хотя ей до смерти хотелось вывернуть перед Артемом душу. Перед священником, перед мужем — все равно.
…Решиться бы ей, но Вера застыла в своем упорстве, как муха в янтаре. Совесть, все эти месяцы делавшая Вид, будто крепко и безмятежно спит, в несколько минут почуяла силу, распустила крылья — гигантские, как у орла. Вера с ужасом оглядывалась назад, понимая, что вляпалась в непростительную по ее собственным законам историю, а теперь ей и только ей придется разбираться с последствиями.
Артем приехал через полчаса.
— Угадай, какую из заповедей я нарушила? — Вера старалась быть язвительной, но получалось это из рук вон. Артем молчал, в машине сильно пахло табачным дымом. Вера взялась было за ручник, но потом отпустила его и заплакала.
— Надо, наверное, собраться с силами и рассказать все с самого начала, — тихо произнес Артем, глядя не на Веру, а на ветровое стекло, щедро усыпанное снегом. Вера злобно включила «дворники».
— Я тебе изменила. Ты… Ты все равно меня не любил никогда, потому что искал чего-то запредельного. А я… Подвернулся человек — случайный, едва знакомый, и я… Мы с тобой не просто женаты — мы венчаны… Я понимаю, что сделала. Понимаю…
Вера всхлипнула, ей страшно было посмотреть мужу в лицо.
— Поедем, — попросил Артем. — Пожалуйста, послушайся меня хотя бы раз — поедем в храм прямо сейчас.
— Зачем? — испугалась Вера.
— Тебе давно надо было исповедоваться, больше откладывать некуда.
— Разве мало того, что я сказала… что я призналась тебе? И потом, уже поздно.
— Никогда не поздно, — уверенно сказал Артем.
— Но я без платка, в брюках!
— Какая ерунда! Поехали…
Сретенка выглядела печальной и строгой. Взгляды с икон — новых и старых — внимательно изучали Веру, в подсвечнике перед распятием стояли две высоких свечи. Артем вернулся быстро, он был в чужом облачении, явно большего размера, и торопливо затягивал поручи.
— Сначала помолимся, — сказал муж и, не дожидаясь, пока жена сообразит развернуться в нужную сторону, начал читать молитвы. Вера стояла набычившись, словно напроказивший ребенок, глаза у нее болели от слез.
— Теперь можешь рассказать мне обо всем. — Артем смотрел на Веру так внимательно, что она снова начала плакать. — Повторять уже сказанное не надо, подробностей тоже… Тоже не нужно. Покайся в том, что тебя мучает.
Вера хотела сказать, что ничего ее не мучает, но вместо этого начала рассказывать, как будто ей диктовал некто невидимый. Она говорила об Алексее Александровиче и его пухлых конвертах, о накладной бороде и едко-сладостном мартини, о ненависти к епископу и давней, позабытой партии в шахматы.
…Через много лет, когда эта история если не забылась, то, во всяком случае, перешла в архивы, Вере вспоминались не жгучие поцелуи чужого человека и не мучения в прокуренной машине, а лицо мужа — лицо священника, который принял ее первую в жизни исповедь.
И позже его голос, слова шепотом: «Отпусти меня».
…Артем смотрел телевизор. Он никогда не был любителем смотреть в мир через это окно, но теперь внимательно смотрел и слушал нервный, с неизжитыми местечковыми модуляциями голос. Профессиональный инстинкт сработал еще в прихожей, и Вера стремглав помчалась к экрану, на ходу ссыпая в память горсти чужих слов. «Вчера, на подъезде к собственному дому, был расстрелян николаевский коммерсант Алексей Лапочкин». На несолидной фамилии корреспондентка чуточку запнулась, слишком уж не вязалось ее ласковое звучание с предшествовавшим в сюжете словом «расстрелян»: оно царапнуло Веру, словно бы Лапочкин пал жертвой врагов революции — или ее же друзей. На экране темнел «БМВ», и рядом беспомощно простерлось мертвое тело, в голове — багровая пробоина. Лица телезрителям видно не было, но добросовестная корреспондентка позаботилась предъявить камере документы убитого: торопясь, их снимали прямо из рук, и картинка дрожала. На Веру с экрана пристально глядел черно-белый, но при этом вполне живой Алексей Александрович — она с ужасом узнавала мягкую складку между бровей и мелкие, тонущие в лице глаза.
Артем сказал:
— Вот и он. — Вспомнил недавние свои мысли: «В роли вселенского зла — Алексей Лапочкин».
Вера отозвалась почти одинаковой фразой, рассказы жены и мужа принялись накладываться друг на друга — как будто звучали из стереоколонок. Из этой быстро растущей картинки восставала такая нестерпимая правда, что Вера, как в детстве, прикусила себе запястье: там нежная кожа светится, словно вода в аквариуме, и вместо водорослей плавают тихие синие вены…
…Она видела, что и Артем поглощен этой историей, что он думает над ее разрешением, но столько сомнений и страхов сгустилось вкруг их маленькой, двухместной семьи, что непонятно, кто был главным — человек или события. Вере так горько стало, что она выбежала из дому, в темноту.
Снег и холод вытрезвляли, и Вера довольно скоро пришла в чувство. Она простраивала простую цепь, хоть и чувствовала, как сильно заносит ее на каждом сочленении звеньев. Спонтанный и теперь уже мертвый любовник Алексей Лапочкин предлагал Артему работать против епископа. Вере поступило сходное предложение, и она согласилась — в отличие от честного супруга. Давешний монастырский ходок утверждал, что воду в Успенском мутил все тот же Лапочкин в паре с загадочным киргизом.
Теперь Алексей Александрович убит. Еще одна экономическая смерть, с которыми Николаевск давно сроднился? Недели не проходило без окровавленных репортажей, подобных нынешнему: когда в бордовой крови неподвижно стыли бывшие дельцы — веселые прожигатели шальных денег, заигравшиеся с нешуточным оружием. Если это убийство такого же сорта, значит, можно успокоиться, но вдруг смерть Лапочкина всего лишь отделана в известном стиле, тогда как в списке поводов значится совсем другое слово?
Вера остановилась под занесенной снегом веткой и сердито тряхнула ее: густые холодные хлопья охлаждали разгоряченное лицо.
Вдруг Лапочкина убили… по приказу епископа? Такой поворот не уложился бы в голове Артема, но Вера готова была его рассмотреть. Она даже начала думать в этом направлении, но тут же вернулась к прежнему месту.
Хватит с нее смелых помыслов.
He помню, как добирались домой — кажется, нас привез Валера, невероятным образом уцелевший в пьянстве. Мама с Петрушкой спали, и я не стала заходить в детскую, чтобы не дышать на племянника алкогольными парами. Сашенька тоже не стремилась к малышу, и мы расползлись по разным углам квартиры: я легла спать, а Сашенька закрылась на кухне и, наверное, плакала — во всяком случае, глаза у нее утром были опухшие. Она попросила, чтобы я пришла к семи, посидеть пару часов с малышом.
Мама ушла рано, я умчалась в редакцию сразу за ней следом. А когда я вернулась, Сашенька уже умерла. Она выпила несколько упаковок реланиума и полбутылки водки. Видимо, это случилось днем — потому что сестра была совсем ледяная. Петрушка кричал охрипшим голосом — от страха и голода сразу. Пустая бутылочка стояла рядом с кроваткой, и Петрушка жалобно показывал на нее пальчиком — присохшие комочки каши белели на пластиковом донышке.
Моя сестра Сашенька даже в детстве не боялась смерти — поэтому ей, наверное, не было страшно. Она, наверное, спокойно все это делала: шелушила таблетки, наливала водку в стакан… Алкоголь в «Космее» не приветствовался, и даже на поминках по мужу Сашенька сдерживалась, но здесь, видимо, решила действовать наверняка.
Я представляла себе, как сознание сестры смущается водкой и снотворным. Как она греет воду в чайнике и наливает бутылочку для Петрушки, и тщательно отмеривает разноцветные деления — 150, 180, 210 миллилитров, теперь семь ложечек растворимой каши и хорошенько взболтать. Потом Сашенька, наверное, разбудила Петрушку, и он сладко улыбался ей спросонок.
Вероятно, сестра положила Петрушку на руку и дала ему бутылочку, он жадно ел кашу, а Сашенька, может быть, гладила его по головке или смотрела в ротик через дно бутылочки. Не знаю! Не знаю, как все было. Никто не знает.
Сашенька наверняка торопилась — мы ведь договорились, что я приду в семь, и ошибись она со временем или дозой, ее можно было бы откачать. Сестра не хотела этого, иначе приняла бы отраву позже.
Неужели она придумала это еще утром, когда мы деловито прощались у порога? Или ночью, когда сидела на кухне совершенно одна?