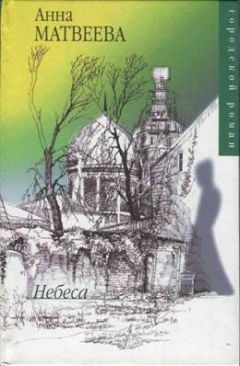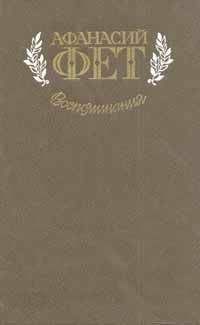…Пепел, оставшийся после кремации, нам выдали через четыре дня — прижимая к груди небольшую урну, я вспоминала дорожную пыль, припорошившую красные сандалии…
Похороны помнятся сбивчиво. Отец наш, увидев Сашеньку в гробу, заплакал и пытался обнять маму, но она даже в горе не желала прощать предателя: черный платок упал с волос, когда мама оттолкнула отцовские руки. Лариса Семеновна шумно вздыхала и скашивала глаза к изящным часикам, болтавшимся на запястье.
Народу в крематории было очень много, и синебархатная сотрудница в приподнятой, похожей на шляпу прическе читала свои соболезнования старательно и громко. Она радовалась большой аудитории и своей власти — она впрямь властвовала над нами, руководила общей скорбью. Если атеистам затребуются вдруг священные обряды погребения, не следует искать никого лучше этих близнецовых женщин, упакованных в бархатные футляры, этих траченных жизнью красавиц с выстроенными трагическими голосами — вот это лучшие священницы. Я думала, а если у этой крематорской жрицы случается горе, как она принимает его? Она, сроднившаяся со смертью, живущая за ее счет?
О Господи, какая разница, одергивала я себя — мамы всякие важны…
Нас всех, стоящих в печальном карауле у гроба, одарили словами участия Сашенькины приятели, подруги, поклонники… Они выгоняли из себя слова, заношенные не меньше признаний в любви, и почти через каждое соболезнование просвечивали любопытство, осуждение, порой даже злорадство.
Однако я не имела никакого права сердиться на этих людей — разве моя собственная скорбь имела хотя бы слабое сходство с подлинным чувством утраты? Глаза мои оставались сухими, как прошлогодняя трава…
…Спустя множество лет после того жуткого дня я начала понемногу прощать себе эту скупость — неистраченные слезы растянулись в прогрессии дней, как и любовь к сестре, хранившая холодное молчание, оживала с каждым годом, прожитым без Сашеньки. Впоследствии я с трудом вспоминала, сколько горя доставляла мне сестра, а ведь прежде считала, что с меня вполне можно писать женскую версию святого Себастьяна — в смысле стрел, посланных Сашенькой. Теперь же все чаще я находила оправдания для сестры. Да и вообще мы строили эту стену вместе, а наслаждаться результатами постройки мне пришлось в одиночестве…
Я рассказывала обо всем этом Артему — отцу то есть Артемию, потому что в те дни видела в нем прежде всего священника. Отец Артемий долго сокрушался, что сестра не была крещеной, и жалел ее за слабость, а мне казалось, будто батюшка чего-то недопонимает. Потому что он жалел и меня, говорил: «ваше самопожертвование», «долг», «мужество». Как любому бездетному человеку, Артему казалось, что мое решение усыновить Петрушку — это подвиг. Кстати, Артем был единственным моим знакомым, кто предложил мне помощь. Мама помогать вовсе не спешила, смерть Сашеньки она переживала в «Космее» и отдавала возлюбленной секте все свое время.
Артем сказал — осторожно, опасаясь ошпарить словами, как кипятком, — что Сашенькино самоубийство могло быть следствием сектантских игр. Предсмертная записка ничего такого не доказывала, но священник словно не слышал меня: «Спасайте свою маму, Глаша». От этих слов я тоже отмахнулась — потому что знала: каждый из них пашет свою пашню.
Марианна Бугрова тоже была с нами в крематории. Мама кинулась на ее пухлую грудь, как кидаются жители оккупированного города навстречу воинам-освободителям. Но эта возмутительно спокойная женщина отстранила от себя маму и подошла ко гробу сестры. Она вела себя как врач, вызванный для веского и решающего слова: когда консилиум в разброде, а пациент в казенкой рубашке дрожит под безжалостными очами операционных ламп, пред скальпелем и скорой смертью. Непонятно зачем Бугровой вздумалось разглядывать Сашеньку так пристально теперь, после смерти, — возможно, мадам продолжала спектакль, делала вид, будто читает на холодном лике сестры тайные письмена, доступные ей одной. Степановна покивала головой, на секунду прикрыла глаза и судорожно сглотнула — словно бы ей тяжело стало бороться с хлынувшей скорбью: как с водой в пробитом трюме. Отвернувшись наконец от гроба, Бугрова прижалась взглядом к маминому лицу:
— Прекрати рыдать, Зоя, ты зря расходуешь бесценную энергию Космоса! В гробу — пустая оболочка, футляр, покинутая скорлупа; как еще тебе объяснить? Сашенька уже на главной орбите, я видела, как она беседует с небесными учителями. Надо радоваться, что ее путешествие окончилось удачно, а ты рыдаешь — зачем, Зоя?
Мама послушно стряхнула слезы и жалко улыбнулась. Бугрова уже покидала зал прощания, не дожидаясь, пока гроб уедет в печь. За ней потекла струйка незнакомых гостей — может быть, они пришли сюда, зная о дружбе мадам с моими родственниками?
Алешина мама подрожала подбородком, прежде чем кинуть вслед уходящей горстку слов — как пригоршню мелких камешков:
— Это кто тут футляр? Ты о ком так сказала, а? Ну-ка вернись, она еще будет над гробом моей дочери так выражаться!
В этот миг Лидия Михайловна была недосягаемо высока, и я гордилась ею — она одна из всех вступилась за Сашеньку, и вся она, от волос, обесцвеченных долгими парикмахерскими издевательствами, до широких больных ступней, с трудом втиснутых в черные туфли, негодовала и кипела, как позабытый на плите суп. Голос у Алешиной мамы был самый что ни на есть средиземноморский — кажется, так называют хриплые, басовитые тембры итальянок и гречанок: подобным голосом очень удобно ругаться. Лидия Михайловна вряд ли бывала в Греции, а голосом таким разжилась в регистратуре детской поликлиники, где честно отработала двадцать четыре года. Теперь же она трудилась директором продуктового магазина и, честное слово, могла бы отвесить Бугровой с полкило куда более резких словечек, но не над гробом же, нет, не над гробом… Бугрова не подумала отозваться на этот клич: прямая мясистая спина была гордо вынесена из зала, никто даже не обернулся на подбоченившуюся, злую Лидию Михайловну.
Чуть раздосадованная сбоем церемонии бархатная священница предложила нам проститься с Александрой Евгеньевной Ругаевой. Я чувствовала близкое пламя крематорских печей и не хотела пускать сестру к языкам огня. Моя старая вражница смерть подмигивала из-за плотно запечатанных дверей, в сторону которых мы все старались не смотреть — я тоже не смотрела, но знала: она там, потирает жадные сухие руки.
Я не знала, почему Сашенька так яростно настаивала на кремации. Возможно, причиной был очередной космейский бред — сжигание тела расчищает дорогу к небесам. Первый раз в жизни я представляла небеса не призрачно-голубыми, но лютого синего цвета. Вращаются белые звезды, переглядываются планеты, и на орбите одной из них сидит моя сестра, свесив ноги в густую космическую ночь.
…Мы прощались с Сашенькой, неловко прикасаясь губами к ледяному лбу. Сильный и душный запах хризантем спорил с запахом сладкой умершей плоти. В нише открылись дверцы, и гроб въехал в них ловко, как автомобиль в привычный гараж. Дверцы закрылись, священница склонила голову, и все побрели к выходу, пытаясь не думать о том, как начинается пир голодного пламени.
Глава 36. «Возлюбленные ревнители благочестия»
Артем после той вечерней исповеди долго не мог собрать мысли и силы вместе — все разбегалось в разные стороны, как у сумасшедшего.
Он еще накануне видел, что с Верой плохо, но боялся спрашивать: ей, чем дальше, тем больше, требовались доказательства собственной обособленности. Поначалу Артема это обижало, но со временем он привык, вправду поверил, что жена у него сильная и в его поддержке не нуждается. В силу сиротства у него не было других примеров перед глазами.
Все же как он молился в ту ночь! Все свои силы, внимание и любовь отдавал, и самому казалось, что никогда прежде не знал такой молитвы, не ведал, на что способен. Вера пришла поздно, не в себе, сразу легла спать, а он молился до самого утра, пока глаза не закрылись, как книги, но, кажется, Артем продолжал молиться даже во сне…
…И все равно не мог предвидеть, чего вымолит назавтра. Исповедуя жену, Артем понял многое и про Веру, и про себя самого. В минуту слабости, когда попросил отпустить его, она вдруг резко проявилась перед ним той самой Верой, которую он полюбил семь лет назад, — сероглазой девочкой с открытым сердцем. Сердце Артем так и не смог принять, вернул подарок обратно.
Он сам во всем виноват, думал Артем, и только Верино благородство вытягивает их из болота. Теперь он чувствовал острую благодарность к жене, просто изнывал от желания помочь ей, сделать для нее все, что она только пожелает.
В ближайшие дни Вера перебралась к родителям, вернее, в их пустой городской дом — те так прочно вписались в деревенскую жизнь, что даже и размышлять не желали над возможностью вернуться в Николаевск. Вслух Артем обещал, что к лету — не позднее — освободит квартиру, про себя же знал, что это случится намного раньше.