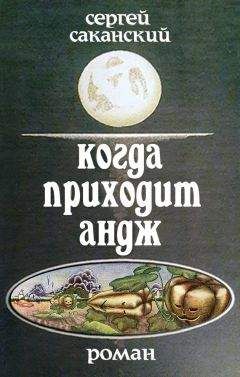Роман был бездарен, утомителен, загроможден реминисценциями и аллюзиями и, будучи ассоциативно замкнут сам на себя, читался с невероятным трудом. Автору постоянно изменяло чувство вкуса: казалось, что подтягиваясь на ручонках, он высовывает из-за букв свою маленькую мертвую голову и кричит: Посмотрите на меня! Это же я — это я!
Стаканский заснул лишь под утро, когда комната перестала являть неподвижных чудовищ, ему приснилось, будто его — дрожащего, голого, бледного — (ничего, сейчас он покраснеет) — двое одетых — неумолимо и молча опускают в ванну с кипящей водой. Он кричит, запрокинув голову, голова скрывается, его крик пунктирен в пузырях, такими же пузырями ползет его тело. Он весь, как бы металлический, погруженный в ванночку с кислотой; пузыри облепили его и тонкими струйками идут вверх — аквариум — некоторое время он видит их на себе и знает: кожа пузырится от того, что кипит внешняя кровь, быстрее движется по сосудам, разрывает его горячей болью — и он на мгновенье представил все свои артерии, вены и капилляры, и он на мгновение почувствовал себя очищенной от мяса и костей кровеносной системой, и все еще бился, но его крепко держали четыре руки в изоляционных перчатках, и теперь он уже не цепляется за них, воя в воду, и не болтает ногами — его руки и ноги вытянуты вверх, торчат из помутневшей воды, красные, напряженно и крупно дрожат. Вдруг он понял: ведь это мама купала его и вытаскивает из ванночки, вытирает толстым белым полотенцем — Елизавета — протирает глазки, ушки, носик, и ему не нравится, потому что щекотно, и он мотает головой, путаясь в ткани, и она приносит его в детскую, и за окнами темнеет рано, потому что уже Сочельник, и за решетчатой ересью морозных узоров стоит — весь ослепительный — солнечнолунный — Каменный Гусь.
Он вышел в сад. Утром Аделаида принесла письмо, каждое слово которого навсегда врезалось в его память.
Письмо было от одного приятеля. Несколько месяцев назад он взял на сохранение рукописи Стаканского и спрятал два тугих чемодана на даче в Малаховке. Надо заметить, что почти все рукописи существовали в одном экземпляре.
В письме говорилось, что означенная дача сгорела и два чемодана (два чемодана — старые кожаные, доставшиеся по наследству от деда, вероятно, дед таскал в них отрубленные головы) также сгорели вместе с домом, и Стаканский вдруг вспомнил Кащея Бессмертного с его сундучком…
Он все еще стоял в саду, слушая, как в прохладном воздухе разливается старая крымская песенка про старичка в серой шляпе, который так любил попивать вечерами липовый чай… И вдруг он понял, что больше всего на свете жалеет не о испепеленном добре, ни даже о рукописях, труде всей его жизни, рассеянном теперь где-то в холодном воздухе Подмосковья, — а о фотографии Анечки с сыном на коленях, фотографии, которую он иногда рассматривал, которая говорила ему: ты испортил меня. Ты испортил мне мою жизнь, а затем убил меня. За что, зачем ты это сделал со мной? Ведь она была у меня одна — моя.
Я была тебе плохой женой, да? Я изменяла тебе, я с тобой скучала, я хотела других, да? Я была тебе плохой партнершей в постели? А я хотела быть единственной женщиной твоей, и после тебя у меня долго не было других, почти два года. А ты прогнал меня ради других, ну и что, если они любили тебя больше, ведь не я виновата, я просто могла тебя любить именно так, как могла… Да, я не могла любить больше, чем это было мне определено, дано Богом. Это как объем легких, он дается и все, и не может быть больше. Я любила тебя.
Когда она ушла, недописанные книги вновь призывно зашелестели страницами, но так и остались в виде воображаемых атласных кирпичей.
Ибо дело было вовсе не в том, что мешали люди, два человечка, оба маленькие, оба — его порождение, и не в том, что газетная работа пожирала его время, и даже не в том, что рукописи в конце концов сгорели, а именно в том главном, в том самом жутком, во что не верят, как, скажем, в собственную смерть.
Он проиграл — только и всего. Цель жизни, с беспечной легкостью поставленная еще в детстве, оказалась недостижимой. Музыка, так ясно звучавшая внутри, так и не нашла выхода. Все его существование оказалось бессмысленным, дряблым, как эта — если заглянуть в будущее — далеко над столом протянутая старческая рука.
Жил на свете один старичок,
У него была серая шляпа…
Наиболее правильным решением было бы взять тыкву, надеть ее на голову, да с лицом, искаженным ужасом, пристально посмотреть в зеркало и несколько раз выстрелить себе висок, из того самого револьвера, настоящего русского нагана калибра 7,62, который уже не раз стрелял на этих страницах — так, чтобы семечки брызнули в разные стороны, а когда из-за плеча выглянет она, театрально размахивая своей серебристой косой, расхохотаться в небо и длинным мазиком пробить ей чужак.
Все оказалось гораздо хуже. Стаканский прожил еще пятнадцать лет. В то утро он вышел в сад и увидел Анжелу, безмятежно игравшую в песочек. Она формировала синим ведерком аппетитные куличи, а напротив восседал толстенький соседский мальчик, немедленно уничтожая каждое новое произведение подруги. Перед вами сама жизнь: хлоп-шлеп — и наоборот. Вскоре этот мальчик полюбит Анжелу, замучит ее признаниями, станет ей отвратителен, хотя всю свою жизнь девушка воспринимала его, как брата… Я хочу присвоить его детство, его город. Загорелый, босой, бегал я в грузовой порт ловить беззащитных и вкусных рапанов… Из нее выросла бы прекрасная невеста. Лет через пятнадцать — жаль, что так немного (по сравнению с вечностью) не совпали во времени.
И на это в ответ старичок
Лишь тихонько и тоненько пукнул…
Он взял девочку на руки и подбросил в воздухе. Анжела крепко ухватила его за шею и поцеловала в губы.
— Между прочим, тогда мне будет пятьдесят, — сказал Стаканский, смеясь, продолжая подбрасывать легкое и прекрасное тело.
— Ха-ха-ха! Пятьдесят.
— Ха-ха-ха…
— Хе-хе-хе.
— Хе…
— Кхе…
Он посмотрел на свою руку, долго и удивленно разглядывал ладонь, будто лежит на ней кусок поразительного минерала. Он приставил палец к виску и шутя выстрелил губами. Цевье руки было сплошь в смертельных пятнах, как некогда у бабули, да и подозрительно похожая палка уже стояла в углу, сроднившись, как маленькая черная собачка холостяка. В свои пятьдесят с небольшим он выглядел на все семьдесят. Представьте себе хотя бы эту жульническую, с перекошенными плечами походку горбуна, добавьте недержание кала… Да, читатель.
За окном значительно выросли деревья. Несколько новых зданий, похожих на губные гармошки, сделали мир еще ужасней.
Последний год, как это под конец случается с каждым из нас, действительность двинулась на него, злобно дыша. Он не сразу понял, что события, каждое из которых происходило вроде бы само по себе, случайно, составляют систему, некое игровое поле, где меченый шарик непременно попадет в лузу, будто некто склонился над столом, думает, выколачивает трубку…
Вчера ночью после концерта хозяин театра взял Стаканского за пуговицу фрака и тихо попросил написать заявление, так как уже найден и ждет новый, молодой контрабасист.
— Я бы на вашем месте продал инструмент, — сказал он, — пока кто-то не сделал вам испанский воротник, крошка.
Последнее время его беспокоили насекомые. Крупный мохноногий паук жил за книжным шкафом, по крайней мере, он туда уходил, волоча серый мешок с яйцами. Несколько кожистых каракатиц обосновались под кроватью, они источали резкий чесночный запах, особенно в период течки. Наконец, самые мелкие, размером с кулак скорпионы, жили и питались в кухонной тумбочке.
Думая о своей жизни, Стаканский не мог вспомнить, когда именно он совершил ошибку — ведь ясно, что в одной человеческой жизни должно быть и одно ключевое, определяющее событие. Может, это была встреча с Норой? Или тот памятный концерт Сен-Санса в Лозанне? Или всему виной Регина? А может быть не стоило ему возвращаться на ялтинское пепелище, на улицу Дмитрова, где давно засыпали бассейн с рыбами — они, наверно, и теперь висят там, в песке и щебне, превратившись в багровые камни… Или, наконец, узел всей его жизни завязывается сегодня, когда в его жизнь снова вошла — все перетряхнув и перепутав — любовь?
Любовь облагородила его, будто бы он подставил лицо свежему морскому ветру и свежий морской ветер растрепал его седые кудри, и вот он уже высокий, седой, с узким благородным лицом матовой кожи стоит над волнами, смотрит, рвет и бросает какие-то бумажки…
Анжела появилась внезапно. Еще вчера Стаканский валялся среди кустов акации, измазанный калом, а сегодня в ночном кафе на Бронной, высвеченный на пол-лица нежной розовой лампой, с изумлением разглядывал девушку, которая, как все ялтинцы, широко и энергично жестикулируя, рассказывала ему свою жизнь…