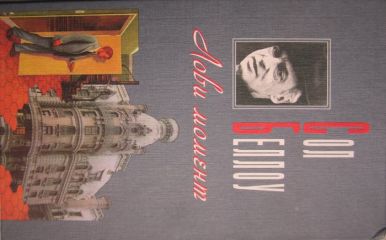В небе над тротуаром и теплым вечерним сумраком пролегли золотистые шлейфы реактивных самолетов, и к северу от 12-й улицы уже сумбурно зыбились огни кабаков, бледное месиво, в котором увязала улица.
— Как ты себя чувствуешь?
— Прекрасно, — сказал Герцог. — А как я выгляжу?
Брат осторожно ответил: — Тебе не помешало бы немного отдохнуть. Может, заглянем к моему врачу?
— Не вижу необходимости. Ссадина на голове перестала кровоточить практически сразу.
— Однако ты хватался за бок. Не дури, Моз.
Уилл человек сдержанный, положительный, трезвый, он пониже брата, зато волос у него погуще и потемнее. Среди таких экспансивных родичей, как папа Герцог и тетушка Ципора, его выделяли тихость, вдумчивость и скрытность.
— Как дома, Уилл, как дети?
— Все хорошо… Чем ты занимался, Мозес?
— Не суди по виду. Не так страшен черт, как его малюют. На самом деле я в хорошей форме. Ты помнишь, как мы заблудились на озере Вандавега? Как барахтались в иле, резали ноги в камыше? Вот это действительно было опасно. А сейчас — чепуха.
— Зачем тебе понадобился пистолет?
— Ты знаешь, что я не больше папы способен в кого-нибудь выстрелить. Ты взял его цепочку для часов, а я вспомнил про старые рубли в столе — и заодно взял револьвер. Зря, конечно. Хотя бы вынул пули. Еще одна блажь. Давай не будем об этом.
— Не будем, — сказал Уилл. — Я совсем не хочу тебя травить. Дело не в нем.
— Я знаю, в чем дело, — сказал Герцог. — Ты тревожишься. — Он умерил голос, чтобы тот не дрогнул. — Я тебя тоже люблю, Уилл.
— Я знаю.
— Да, вел я себя не очень обдуманно. С твоей точки зрения… Да с любой разумной точки зрения. Я привел Маделин к тебе в контору, чтобы ты видел, на ком я женюсь. Было ясно, что ты ее не одобряешь. Я сам ее не одобрял. И она меня не одобряла.
— Зачем тогда женился?
— Бог связывает все, что болтается без дела. Спроси зачем! Уж конечно, он не пекся о моем благоденствии, о моей личности, если на то пошло. Тут можно сказать одно: — Вот красная нитка, связанная с зеленой — или голубой, — интересно зачем? — А потом я убухал все свои деньги в людевилльский дом. Это уже было просто безумие.
— Не скажи, все-таки недвижимость, — сказал Уилл. — Ты не пытался его продать? — Уилл истово верил в недвижимость.
— Кому? И как?
— Составь с агентом опись. Может, я подъеду, посмотрю сам.
— Буду тебе признателен, — сказал Герцог. — Только сомневаюсь, чтобы кто-нибудь в здравом уме купил его.
— Моз, дай я позвоню доктору Рамсбергу, пусть он тебя посмотрит. А потом пойдем ко мне и пообедаем. Мои будут в восторге.
— Когда ты сможешь приехать в Людевилль?
— На будущей неделе я должен быть в Бостоне. Потом мы с Мюриэл собирались на Кейп-Код.
— Так поезжай через Людевилль. Это близко от магистрали. Ты окажешь мне огромную услугу. Я должен продать этот дом.
— Пойдем к нам, за столом и поговорим.
— Нет, Уилл, не могу. Ты посмотри на меня — я же последняя рвань, только расстрою всех. Не хватало вам вшивой заблудшей овцы. — Он рассмеялся. — Нет, в другой раз, когда немного приду в норму. А сейчас я похож на новоиспеченного иммигранта. Типичный ПЛ[243]. Вот такими мы приехали из Канады. Господь Бог, мы были все в саже.
Уилл не разделял его страсти к воспоминаниям. Инженер-технолог, строительный подрядчик, человек уравновешенный и рассудительный, он с болью видел Мозеса в таком состоянии; лицо у него пылало, текло; он вынул из внутреннего кармашка хорошо сшитого пиджака носовой платок и промокнул лоб, щеки, крупные герцогские глаза.
— Извини, Эля, — сказал Мозес спокойнее.
— Да я…
— Дай мне немного привести себя в порядок. Я понимаю, ты за меня волнуешься. Но уж так вышло. Извини, что причиняю тебе беспокойство. У меня действительно все хорошо.
— Точно? — печально взглянул на него Уилл.
— Да, только сейчас всё против меня: грязный, навалял дурака, отпущен под залог. Смех и только. На следующей неделе, на востоке, все будет выглядеть совершенно иначе. Хочешь, я встречу тебя в Бостоне? Когда оклемаюсь? Сейчас тебе придется обращаться со мной как с придурком. Как с ребенком. А это неправильно.
— Я тебя вовсе не осуждаю. Неудобно тебе идти к нам — не надо. Хотя все-таки мы одна семья… Вон, на той стороне моя машина. — Он показал на темно-синий «кадиллак». — Все же заедем к врачу, я должен знать, что ты не пострадал в аварии. А потом делай как знаешь.
— Ладно, уговорил. Ничего у меня не найдут. Помяни мое слово.
Однако он не очень удивился, узнав, что сломано ребро. — Легкое не затронуто, — сказал врач. — Недель на шесть наложу повязку. И два-три шовчика на голове. Тяжелое не поднимать, не напрягаться, дрова не колоть и вообще избегать резких движений. Уилл говорит, вы у нас помещик? Ферму имеете в Беркширах? Недвижимость?
Седоватый, зачесанный назад, с пронзительными глазками, доктор растянул в улыбке тонкие губы.
— Она в запущенном состоянии. И страшно далеко от синагоги.
— Ха, шутник ваш братец, — сказал доктор Рамсберг. Уилл еле заметно кивнул. Сложив на груди руки, он стоял почти в позе папы Герцога — ослабив одну ногу, и если оригинальности старика он не унаследовал, то кое-какое изящество ему передалось. Не до оригинальности, думал Герцог, когда на руках большое дело. Нет в ней особого интереса. Другие заботы поглощают. Он славный, очень славный человек. Но странно мне это разделение обязанностей, где я… мастер по части духовного самосозерцания, или, там, эмоциональности, или идей, или чуши всякой. Отчего, может, проку никакого нет, без толку все, разве что сохранить некие первобытные чувствования. А он готовит раствор для высоток, растущих в городе как грибы. Он должен быть политиком, должен торговаться, ловчить, гасить задолженности и чертить кривую налогов. Ему с рождения далось все то, о чем мечтал неспособный папа. Уилл — мирный человек долга и заведенного порядка, у него есть деньги, положение, вес, и он только рад избавиться от частного, «личного» момента. Я представляюсь ему разбрасывающим огонь в чащобе мира, и он, конечно, жалеет, что у меня такой нрав. Если по старому раскладу Мозес — недотепа, простак, бестолочь, открытое сердце, сама беззащитность, нездоровое явление, новоявленный не от мира сего, — то я, по этому прежнему раскладу, нуждаюсь в защите. И он с радостью ее предложит — человек, который «знает, что чего стоит». Между тем подобные мне исключительно по своей воле противопоставили гордый субъективизм массовому историческому прогрессу. И это же верно в отношении трудных мальчиков и девочек из низших слоев, когда они усваивают эстетическую норму, норму чуткой отзывчивости. Тогда они ищут, как уберечь свою личную модель существования от давящей силы массы. Маркс называл это «материальной силой». Тогда эту штуку — свою «личную жизнь» — они превращают в цирк, в гладиаторскую схватку. Либо устраивают представление помягче. Чтобы высмеять ваш «стыд», вашу пресность-однодневку и показать вам, почему вы заслуживаете свою боль. В тесноватой комнате белые современные светильники описывали круги, вращались. Герцог чувствовал, что и сам кружится с ними, пока доктор туго пеленал грудную клетку пахнущими аптекой повязками. Ладно, конец всем вракам…
— Мне кажется, брату неплохо бы отдохнуть, — сказал Уилл. — Как вы думаете, доктор?
— Вид у него неважнецкий, что и говорить.
— Я побуду недельку в Людевилле, — сказал Мозес.
— Я имею в виду полный отдых, в постели.
— Я понимаю, что кажусь не в себе. Но мне с самим собой неплохо.
— Нет, — сказал его брат, — я за тебя тревожусь.
Вот паразитская любовь — не мытьем, так катаньем. Есть желающие ей послужить? Он всегда готов. Кто нуждается в нем? Подскажите только, ради кого принести себя в жертву истине, порядку, покою. Нет, непостижимое он существо, этот Герцог, упакованный в бинты, с помощью брата Уилла влезающий в мятую рубашку.
До места он добрался назавтра днем: сначала самолетом до Олбани, потом автобусом до Питсфилда, потом на такси до Людевилля. Накануне Асфалтер дал ему туинала. Он хорошо выспался и, несмотря на перебинтованные бока, чувствовал себя превосходно.
Дом был в двух милях от поселка, в холмах. Погожее, дивное лето в Беркширах: воздух легкий, ручьи быстрые, леса густые, трава свежая. И птиц во владениях Герцога развелось, как в заповеднике. Под декоративными завитками веранды свили гнезда вьюрки. Гигантский вяз кое-как доживал свой век, и в нем еще обитали иволги. Герцог велел таксисту остановиться на мшистой дороге, обставленной валунами. Не было уверенности, что к дому можно подъехать. Но ни одно дерево не упало поперек дороги, и хотя талые воды и бури смыли порядочно гравия, машина без труда прошла бы. Впрочем, Мозес не возражал немного подняться в горку. Его грудь надежно защищала повязка, ноги у него легкие. В Людевилле он купил кое-какую провизию. В подвале должны быть консервы, если их не съели охотники или бродяги. Два года назад он консервировал помидоры и фасоль, варил малиновое варенье и перед отъездом в Чикаго припрятал вино и виски. Электричество, конечно, отключено, но можно наладить старый ручной насос. На крайний случай есть цистерна с водой. Приготовить можно в камине, там есть старые крюки и таганы — и тут (сердце у него забилось) из травы, вьющихся лоз, деревьев и цветенья выступил дом. Глупейшая затея Герцога! Памятник откровенной глупости влюбленного, чему-то скверному в его характере, символ еврейской борьбы за прочное положение в Америке белых англосаксов-протестантов (как выразился на инаугурации сентенциозный старик: «Владели мы страной, ей не подвластны»[244]). Я тоже штурмовал высоты, и как заносчиво, я попортил кровь баспам, которые сложили крылья уже где-то в 1880-е годы, когда правительство разменяло континент на железные дороги, и те зачастили в Европу развеяться, а виноватыми у них вышли ирландцы, испанцы и евреи. Какую борьбу я выдержал! Бил наобум, зато яростно. Ладно, главное — я здесь. Хинени![245] Какая дивная красота сегодня! Он стал в заросшем дворике, сощурил глаза на солнце, увидел малиновые сполохи, втянул запахи катальповых колокольчиков, земли, жимолости, дикого лука и трав. Под вязом побывал олень или любовная парочка — трава была примята. Он обошел вокруг дома, высматривая повреждения. Все окна были целы. Ставни, притянутые изнутри крюками, нетронуты. Но несколько его уведомлений о том, что имущество охраняется, было сорвано. Сад превратился в густую чащу колючего кустарника, розы и шиповник переплелись. Все было безнадежно запущено, и жалеть об этом поздно. Заняться всем этим у него уже не будет сил — приколачивать, красить, латать, связывать, подрезать, опрыскивать. Он только посмотрит, что здесь и как.