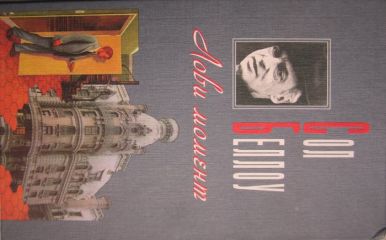Он не без труда перевернул матрац на полу бывшей комнаты Джун, отсунул к стене отслужившие игрушки и детскую мебель — огромного набивного тигра с голубыми глазами, детский стульчик, красный зимний комбинезон, совсем еще хороший. Среди находок оказались также бабкины бикини, шорты и купальник, еще всякая чушь, в том числе банная махровая салфетка с его инициалами, вышитыми Фебой на день рождения, — может, не без намека, что пора бы ему прочистить уши. Улыбнувшись, он пнул ее ногой. Из-под нее засеменил жук. Улегшись на матрац под открытым окном и подставив лицо солнцу, Герцог отдыхал. Из палисадника громадные ели осеняли его занозистыми лапами и струили запах нагретой хвои и смолы.
На этом-то месте, пока в комнате было солнце, он ответственно, от всей полноты умиротворенного сердца начал новый цикл писем. Дорогая Рамона! Всего-навсего «дорогая»? Приоткройся побольше, Мозес. Милая Рамона. Ты совершенно замечательная женщина. Он задумался, говорить ли, что он в Людевилле. На своем «мерседесе» она может добраться из Нью-Йорка за три часа — и, может статься, так она и сделает. Благослови, Боже, ее коротковатые точеные ножки, крепкую загорелую грудь и умопомрачительные кривенькие зубы, цыганские брови и локоны. La devoradora de hombres[248]. Однако местом отправления он решил указать Чикаго и попросить Лукаса переслать дальше. Сейчас ему хотелось одного — покоя. Покоя и ясности. Надеюсь, я не очень тебя огорчил своим исчезновением. Я знаю, ты не из тех ломак, у кого потом месяц замаливаешь пропущенное свидание. Мне нужно было повидать дочь и сына тоже. Он в Аюмахском лагере, что в районе Катскиллских гор. Лето обещает быть рабочим. Есть интересные результаты. Не возьмусь утверждать слишком многое, но одно, что не переставая утверждал и всегда чувствовал, уже могу высказать. Свет истины не в дальней дали, и нет настолько ничтожного или испорченного человека, чтобы он не вошел в него. Почему, собственно, не сказать это? Но мириться с бесполезностью, с изгнанием в личную жизнь, с неразберихой… Может, Герцог, начать с тех сов в соседней комнате, с голых совят в синих прыщах? Ибо последний вопрос, он же первый, вопрос смерти предлагает нам интереснейшую альтернативу: либо по собственному желанию, в доказательство своей «свободы», распасться на составные части, либо признать, что своей жизнью мы обязаны вот этому бодрствующему сроку существования, хотя бы остальное пустота. (В конце концов, мы не знаем положительно, что такое эта пустота.)
Нужно ли все это говорить Рамоне? Иные женщины воспринимают серьезность как попытку расположить к себе. Она захочет ребенка. От мужчины, который разговаривает с ней подобным образом, ей захочется произвести потомство. Работа. Работа. Настоящая полезная работа… Он прервал мысль. А Рамона — отменный работник. В меру своих возможностей. При этом любит свою работу. Он нежно улыбнулся ей с облитого солнцем матраца.
Дорогой Марко! Я выбрался в родовое поместье посмотреть, что и как, и передохнуть. Вообще говоря, все тут в полном порядке. Может, после лагеря ты захочешь пожить со мной здесь — по-походному? Поговорим в родительский день. Я бы очень этого хотел, правда. Твою сестричку я видел вчера в Чикаго, она шалунья и прелесть. Твою открытку она получила.
Помнишь, мы говорили об антарктической экспедиции Скотта — как бедняга Скотт пришел к полюсу после Амундсена? Тебе было интересно. Меня вот что всегда потрясало: один человек из отряда Скотта ушел и потерялся, чтобы дать другим возможность уцелеть. Он заболел, стер ноги и поспевать за другими уже не мог. А помнишь, как они случайно набрели на холмик замерзшей крови — это была кровь их добитого раньше пони — и с каким благоговением они оттаяли ее и выпили? Своим успехом Амундсен был обязан собакам, которых взял вместо пони. Слабых убивали и скармливали сильным. Иначе экспедиция не удалась бы. Я часто поражался одной вещи: обнюхав тело собрата, собаки отбегали, какими бы голодными они ни были. Только когда освежуют, они будут есть.
Может, на Рождество мы с тобой махнем в Канаду, отведаем настоящего морозца. Я ведь еще и канадец. Можно будет посетить Сент-Агат в Лаврентийских горах. Жди меня 16-го чуть свет.
Дорогой Лук! Окажи любезность — отошли эти письма. Я был бы рад услышать, что ты вышел из депрессии. Мне думается, что образы тетки, спасаемой пожарным, и играющих девиц свидетельствуют о психологической реабилитации. Обещаю тебе выздоровление. Что касается меня… Что касается тебя, подумал Герцог, то о своем самочувствии лучше не говори ему — вон как тебя распирает! Радости это ему не даст. Держи при себе свои восторги. Не то подумает, что ты спятил.
Но если я схожу с ума, то быть по сему.
Глубокоуважаемый профессор Мермельштайн. Я хочу поздравить Вас с превосходной книгой. Кое в чем Вы меня таки обставили, и я по этому случаю рвал и метал, целый день ненавидел Вас за то, что порядочную часть моей работы Вы сделали ненужной (еще раз Уоллес и Дарвин?)[249]. Тем не менее я хорошо понимаю, сколько труда и терпения забирает такая работа, сколько нужно копать, постигать, обобщать, — нет, я в совершенном восторге. Когда Вы подготовите исправленное издание — а может, напишете еще книгу, — потолковать о некоторых проблемах будет истинным наслаждением. Некоторые главы своей задуманной книги я уже никогда не напишу. Эти материалы целиком в Вашем распоряжении. В своей предыдущей книге (на которую Вы весьма любезно сослались) я посвятил один раздел теме Неба и Ада в апокалипсическом романтизме. Возможно, я Вам не угодил, но совсем игнорировать этот раздел не стоило. Вам имеет смысл полистать монографию фатоватого толстяка Эгберта Шапиро «От Лютера до Ленина. История революционной психологии». Своими толстыми щеками он вылитый Гиббон. Стоящая работа. На меня произвел глубочайшее впечатление раздел «Милленаризм и паранойя». Нельзя не видеть, что современные государственные образования сильно отдают этим психозом. На сей счет некто Банович написал безобразную и сумасшедшую книгу. Вполне бесчеловечную, полную гнусных параноических допущений — вроде того, что толпа по сути своей людоедское племя, что стоящие люди таят угрозу для сидящих, что открытые в улыбке зубы суть оружие голода, что тиран алчет зрелища трупов (не оттого ли, что они съедобны). Хотя сущая правда, что производство трупов стало самым впечатляющим достижением современных диктаторов и их приспешников (Гитлер, Сталин и т. д.). Герцог специально пустил этот пробный шар: посмотреть, не грешит ли Мермельштайн сталинизмом. А вообще этот самый Шапиро отчасти оригинал, и я беру его как крайний случай. Мы все обожаем крайности и апокалипсисы — пожары, утопления, удушения и прочее. Чем больше жиреют наши терпимые, благонравные, ручные средние слои, тем настоятельнее требуется радикальная встряска. Получается, что терпимая, сдержанная трезвость и взвешенность абсолютно не привлекают. А как они нужны сейчас! («Собака тонет, а ей предлагают стакан воды», — с горечью говаривал папа.) Как бы то ни было, прочти Вы ту мою главу об апокалипсисе и романтизме, Вам в более правильном свете увиделся бы обожаемый Вами русский — Извольский? — которому души монад представляются легионами проклятых, измельченными до атомов и развеянными, — пыльным смерчем в аду; который предостерегает, что Люцифер возьмет под свое крыло сборное человечество, утратившее духовную крепость и самостоятельность. Я не отрицаю, что в том или ином отношении это верно, но меня тревожит, как бы эти идеи — именно в силу их правдоподобия — не загнали нас в те же затхлые церкви и синагоги. Меня несколько озадачили заимствования и ссылки методом «налета», как я это называю: серьезные убеждения других писателей для Вас просто метафоры. Мне, например, понравился раздел «Интерпретации Страдания», как и другой раздел — «На пути к теории Скуки». Вот образчик прекрасного исследования! Но по зрелом размышлении я решил, что с Кьеркегором Вы обошлись весьма легкомысленно. Рискну утверждать, что, по Кьеркегору, истина более не имеет над нами силы и мучительное страдание и горести призваны заново наставить нас в ней, вечные муки ада обретут реальность, покуда человечество еще раз не возьмется за ум. А я так не считаю, не говоря уже о том, что меня тошнит, когда подобные убеждения высказывают благополучные, безбедные люди, для которых кризис, отчуждение, апокалипсис и отчаяние только род увлечения. Мы должны выбросить из головы, что живем в обреченное время, что ожидаем конца — и что там еще болтают в модных журналах. И без этих страшненьких игр все достаточно мрачно. Стращать друг друга — с моральной точки зрения недостойное занятие. А главное, защита и прославление страдания уводят нас совсем не туда, куда нужно, и те, кто еще верит в цивилизацию, не должны этому поддаваться. Нужно иметь силы обратить страдание на пользу, раскаяться, просветиться, нужно располагать такой возможностью — и временем, коли на то пошло. У людей религиозных в любви к страданию выражается благодарность за жизненный опыт, за возможность испытать зло и претворить его в добро. Они верят в то, что духовный, цикл может и должен совершиться на человеческом веку и человек так или иначе извлечет пользу из страдания хотя бы и в последние минуты жизни, когда милосердие Божье вознаградит его, явив истину, и он умрет преображенным. Но это особая статья. Гораздо чаще страдание ломает людей, сокрушает их, и ничего просветляющего, в этом нет. На Ваших глазах люди страшно гибнут от страданий, мучаясь к тому же утратой своей человечности, отчего смерть представляет уже совсем полный крах, а Вы пишете о «современных формах орфизма», о «людях, которые не боятся страдать», ведете другие застольные разговоры. Почему не сказать просто, что люди с богатым воображением, способные сильно грезить и творить изумительные, самодовлеющие вымыслы, подчас страдают сознательно, ибо в этом их блаженство, как другие колют себя булавкой, убеждаясь, что не спят. Я знаю, что мое страдание, если позволительно об этом сказать, зачастую было в этом роде — попыткой раздвинуть жизнь, порывом к истинному бодрствованию, противоядием от иллюзорного, и потому нет у меня морального доверия ко всему этому. Я хочу открыть свое сердце, не подвизаясь более в страдании. И для этого не нужны ни доктрина, ни теология страдания. Мы слишком возлюбили апокалипсисы, и кризисную этику, и броский экстремизм с его волнующим словарем. Нет, увольте! Я хлебнул столько уродства, что больше не надо. Мы подошли к такому рубежу в истории человечества, когда об иных личностях можно спросить: «Что сие представляет собой?» И хватит с меня — хватит! Я всего-навсего человек — более или менее. С этим «более или менее» я и хочу оставить Вас. Предоставляю Вам разобраться со мной. Вы питаете пристрастие к метафорам. Ваша работа, во всем остальном замечательная, испорчена ими. Убежден, что Вы меня загоните в какую-нибудь роскошную метафору. Только не забудьте сказать, что я никогда и никого не стану соблазнять страданием и не призову Ад, дабы сделать нас серьезными и правильными. Я даже полагаю, что у человека развился изысканный вкус к боли. Впрочем, это уже другой и долгий разговор.