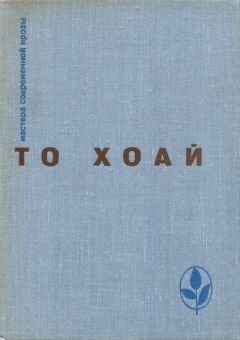Наконец, утомленные долгой дорогой, носильщики садились на землю, а отдохнув, поднимались и становились по обочинам дороги, оправляя свои набедренные повязки.
Здесь отроков различали строго: по происхождению и достатку. Достигнув границы, за которой лежали поля и откуда начиналась ровная прямая дорога, носильщики уступали свою ношу юношам, умудренным книжной ученостью. И все, кто шел по этой ровной дороге рядом с носилками, держа расшитые шелковые зонты и балдахины, опахала, золоченые мечи и святые реликвии, были отпрысками богатых семейств.
После привала в Конгви носильщики менялись.
Когда же вдали у городской стены появлялся храм Бронзового барабана, пресвятая супруга ликовала и радовалась. Носилки ее сворачивали в сторону и то «лётом», то «ползком» пересекали поля. На этой холмистой и трудной дороге носилки опять принимали на свои плечи простолюдины.
Прямоугольное основанье носилок имело по шесть длинных расходившихся веером ручек на каждом углу; двадцать четыре носильщика, чью наготу прикрывали одни лишь набедренные повязки, несли носилки на своих плечах. Они неподвижно глядели перед собой и держались прямо, точно борцы перед схваткой.
А тем временем из деревни навстречу им чинно и стройно выступали девушки с корзинами на головах. В корзинах лежали катыши вареного риса — самого лучшего риса, именуемого «соан», зерна которого — мелкие, но чистые и пахучие — созревают в восьмом месяце, а кроме того, мелко нарубленная постная свинина и коржи из поджаренных зерен клейкого риса, коими славится деревня Ваунг. И носильщики, прежде чем снова подставить плечи под свою ношу, воздавали должное угощению.
Ха была среди девушек, что подносили в корзинах рис и прочие блюда.
Тьы, один из носильщиков, вместе с другими деревенскими парнями дожидался угощения, которое выставляли им верующие со всей округи. Ели носильщики, сидя на земле у обочины.
После трапезы парни выстраивались подле носилок. Тьы в одной лишь набедренной повязке, с прямоугольным красным полотнищем на плече и пестрым веером, воткнутым в высокую прическу, стоял первым среди носильщиков, вытянувшихся в ряд, — прямой, как черта, означающая единицу.
Носилки приходили в движение, они плавно поворачивались на ходу и были хорошо видны охочему до зрелищ народу, сбегавшемуся со всей округи.
Сверкала позолота и красный лак, развевались цветные завесы.
Заслышав гулкую дробь барабана — его за ручки, приделанные по бокам, несли в середине процессии, — все двадцать четыре носильщика опустились, точно вьючные слоны, на колени и поползли по склону холма. Их крепкие торсы, служившие опорой носилкам, оставались по-прежнему прямы.
Носилки ползли, покачиваясь на поворотах дороги, а кругом, на пригорках и межах, стоял народ. Толпа, словно паводок, прибывала с каждой минутой. И зрители не скупились на похвалы, провожая взглядами каждого из двадцати четырех молодцов.
А к вечеру лицедеи ставили неподалеку от храма три балагана и до самого утра разыгрывали представления тео…
Кто знает, давно ли, недавно ли Ха полюбила носильщика… Может быть, они впервые приметили один другого, когда она с подружками несла на голове корзины со снедью? А может, глаза их встретились в тот миг, когда носилки «пролетели» мимо нее, или два сердца потянулись друг другу навстречу, когда он, преклонив колено и, точно сказочный богатырь, не сгибаясь под тяжестью носилок, замер в ожиданье у подножия холма?
Кто знает…
Любовь их могла вспыхнуть и в ту самую ночь, когда лицедеи при луне и звездах давали представление тео и грохот барабанов волновал воду у берегов реки Толить.
Кто знает…
* * *
Ночь была темная, как всегда на исходе седьмого месяца.
Светильник, прибитый к шесту, угас. Масло вытекло из плошки и расплылось по земле круглым, как блюдце, черным пятном.
Опустел помост, где разминали бумажную массу и заливали ее в сита, ходившие ходуном, чтоб отжать воду; умолкли вальки работниц, да и сами они давно разошлись по домам, освещая себе факелами дорогу.
Одна лишь Ха осталась на берегу, снедаемая тревогой.
Теперь, когда сита замерли и вода не стекала более на помост, стал слышен долетавший с Западного озера[120] стук пестов — это толкли в ступах кору дерева зио[121], и размеренный гул их, казалось, ударял в лунный диск.
Войдя в хижину, Ха взяла приготовленный заранее соломенный трут, разожгла огонь и пошла к озеру.
Лотосовая заводь, лежавшая перед храмом Бронзового барабана, соединялась с рекою Толить; и от самой деревни можно было проплыть к каналу До и попасть в Западное озеро. Вдоль берега вереницей тянулись хижины, где жили рабочие и мастера-бумажники со всей округи.
Ха подошла к самой воде и принялась размахивать горящим трутом. Не успела она разжевать свой бетель, как вдруг лежавшие на воде листья лотосов закачались, потом появилась раздвигавшая их носом небольшая лодка. Длинный шест, уходя в воду, задевал сухие листья, и они громко шуршали. Наконец лодка выбралась на чистую воду и причалила к пристани. Стоявший в лодке мужчина поднялся на берег, следом за ним плыл душистый запах лотосов.
Ха схватила Тьы за руку и заплакала:
— Знаешь, его плоты с корой зио спустились уже по реке.
— Чьи? Богатея Эна?
— Да. Они за пристанью Тем.
Слушая жалобный, словно молящий о спасении голос девушки, Тьы понимал, он должен как-то успокоить, утешить ее. Но что может он сделать? И он решился:
— Убью подлеца Эна, иначе этому не будет конца!
— Мне страшно. Ведь за убийство…
— Пусть только явятся за здешнею девушкой, — зловеще засмеялся он, — ноги отсюда не унесут. Я ему так и сказал.
Ха зарыдала в голос.
Она знала, убийство — страшное преступление, его не загладить, не избыть. Оно сулит лишь новые страхи и мучения.
Назавтра Тьы, прихватив длинный тесак, среди бела дня вышел за деревенские ворота. Был он в одной лишь набедренной повязке — словно собрался нести храмовые носилки.
Он прямиком, через поля, отправился к пристани Тем — по вечерам купец Эн всегда пьянствовал здесь с друзьями. Тьы на ходу то и дело вытаскивал тесак, словно примеряясь, как половчее с маху рассечь глотку купца и швырнуть его в реку.
Скорее всего, купец завалился в дом к какой-нибудь из певичек тут же, рядом с пристанью, но Тьы решил, что отыщет его и там отрубит купцу голову. Нет, Тьы не простит купцу тяжкой обиды! И отмщение близко, потому что враг где-то здесь, рядом.
Из года в год купцы сплавляли плоты с корою зио поближе к общине Быои и продавали ее мастерам, делавшим бумагу. Долог был путь их с верховьев реки Тхао до здешней пристани Тем. Тут вязанки коры складывали в огромные груды — никак не ниже известняковых гор, что высятся близ селений Иентхай, Донг или Хо.
Давным-давно искусные мастера-бумажники, выходцы из Дайты[122], откуда они переселились на землю Быои, основали здесь деревеньку Ван и взялись за прежнее свое ремесло. Хижины их лепились возле огромных груд коры, из которой варят бумагу.
Когда приходит пора сплава, на пристани Тем с утра до ночи шумят и рядятся хозяева плотов и перекупщики коры. Звонкая дробь фатя[123] порой заглушает голос певички, наливающей гостю хмельную чарку. Веселое заведение подле самой пристани живет щедротами корабельщиков да купцов, а они здесь появляются от срока до срока. Время сплава коры для заведения самое прибыльное — у владельцев плотов полна мошна, и гуляют они, не зная удержу, каждый старается переплюнуть всех и вся. Музыка и песни для них — не услаждение души, а пустая забава. Случается, нанимают они певичек на все время торгов и, приказав запереть двери, днем и ночью пируют под переливы старинных песен, заливая водкою глотки, а не то засядут за игру и просаживают целое состояние.
Деревце зио хоть и невелико, а в разных местах имеет свое, особое название. К примеру, зио, что растет в лесах Люкиена, именуется «фо»; кора его суховата, мало в ней клейкости, да и самый луб короток и неширок, ибо деревья там растут низкорослые. Оттого-то плоты из Люкиена хозяева торопятся сбыть оптом. В Нгиало дерево это зовется «лэм», у коры его луб пошире, но тоже коротковат. За один только вечер в веселом заведенье, а бывает, за один-единственный кон игры плоты из Нгиало не раз и не два переходят из рук в руки, от хозяев к перекупщикам и снова к хозяевам, и цена на них то и дело меняется, как переменчивый ход плывущей по реке ряски. Лучше всего кора с берегов Тхао, луб ее и долог, и широк, и шелковист. Владельцы плотов с реки Тхао привередливы и цену запрашивают высокую, словно отцы, у которых на выданье красавицы дочки. А люди наперебой расхватывают их товар, набивают цену и, не успев сторговаться на пристани, торопятся следом за торговцами на постоялый двор в Хангхоа.