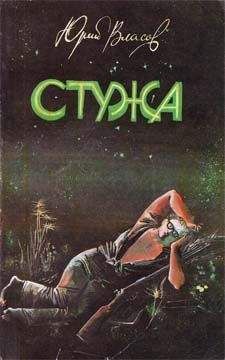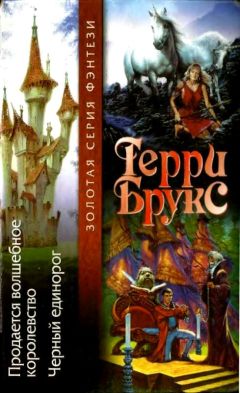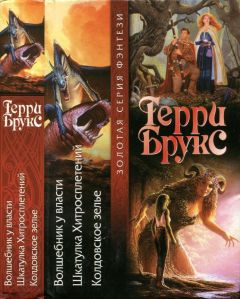А я вспоминаю того человека с мечом из сна. Я считаю толкование снов определенной умственной ущербностью. Что и как происходит в мозгу, когда без памяти, соотносить с закономерностями реальной жизни нельзя. В этом я, как материалист, убежден. Поэтому о том, что со мной было, когда я спал, стараюсь не вспоминать: бред, не больше! Я бы давно забыл — не будь та женщина: весь в памяти ласк. И тот человек с мечом, и это: «Единственный!»
— Ты слышишь меня? — мама окликает меня. В ее глазах лучится доброе, любовное чувство. — Ой, не верь людям, сынок, ты молод, откровенен. Не верь! Остерегайся душевных, предупредительных — эти наверняка из «органов». Их профессия — втереться в душу — и продать. За то им зарплата, наградные, чины, ордена, погоны…
Это — удар! До сих пор я не мыслю себя вне партии. Она представляется мне единственной праведной и созидательной силой. Ленинизм! Сталин! Партия!.. Но слова матери имеют для меня силу закона. Каждое ее слово ложится в память. Отец, мама, мой род — это свято.
— О чем же я?.. Так вот, когда у Ивана Гордеевича дети совсем заморились, вот-вот пропадут, он натягал рогозы. Посушил корень: белый, как картофель. Натолок — и напекли лепешек. Горькие, но сжевали. А такой понос и рвота! Гаврюша едва не умер, почти без памяти двое суток… Некуда дальше! Иван тогда снова охотой и рыбалкой промышлять! Его в стенной газете с удочкой нарисовали. Председатель насел, Никифора припомнил. Иван Гордеевич озлился: «Раз членство в колхозе добровольное — выхожу! Минэ дэтэй гудовать!» Вышел из колхоза. Зажил рыбалкой. Но недолго ели рыбку. Вызывают в район и грозят: «Не вернешься в колхоз — пеняй на себя!» Ни с кем не делись, сынок! Твой папа никого не приглашал. Сегодня тот арестован, через год другой. Лучше никого не знать. У нас не бывали гости. Он и окна закрывал занавесками: нечего другим заглядывать. Немыми жили… Так вот, Иван Гордеевич вернулся из района — лица нет. Не вступит опять в колхоз — смерть надо принимать, вступит — детей схоронит. На совит до нас: сыдели, а придумать ничего не можем. Никифор-то зарублен, не будет Ивану пощады. А утром ему на базаре кто-то и подсказал: «Крой в Ташкент! Пока не взял — крой!» Иван в ночь собрался — и в город, еще потемну из станицы. И без задержки в Ташкент. Устроился за городом, при столовой, рабочим. Как раз детей подкормить. Старшие ребята уже почти взрослые, пособляли… Мужья обычно делятся делами. А я вот не представляла, чем занят твой папа. Он линию держал: «Ляпнешь на допросе — всю семью арестуют. А так пытай тебя — ничего не знаешь». Взять могли любого в любое время… и брали. Так что все это было не лишнее… Я ничего о нем и не знала — ни о сотрудниках, ни о командировках, ни о делах… Да, бежал Иван к счастью. Ожил с детьми. И на их головы тропическая лихорадка! Лекарства нет, температура под сорок, истощенные… Умерла бабушка, за ней — Владимир, Николай, Аня… Врач в отчаянии: «Срочно меняйте климат, тогда остальные уцелеют!» То есть Тоня и Гаврюша. Тоню не довезли. В поезде Тоня отошла… Вот откуда разница в годах. Гаврюша — единственный из тех уцелел. Он же лысый с той болезни… Сынок, не спрашивай, не ищи ты ответ. Ничего не изменишь. Толкуй, что все толкуют. Хай они сказятся!.. Что Иван? А-а-а… Ивану все равно в станицу нет ходу. Нанялся грузчиком на городской мясокомбинат. И вот такая тоска по детям, такая боль, столько плакал — решил семью восстанавливать. Годы-то какие: почти старик. А Дарья ж моложе на двадцать лет — понесла одного ребенка за другим. Деньги нужны. Вот Иван и впрягся: мешки, лес грузил, и чаще на дне смены. Нам и словом не жаловался. И в те годы — ни вина, ни водки. А по доброте и песне — тот же. Не так пели — город кругом. А подхожу — они халупу какую-то возле мясокомбината занимали — на полголоса поют… Нет сынок, дай Бог памяти: нас-то у мамы самих было пятнадцать, а у Ивана… Аня, Николка, Тонечка, Вовка, Андрей… Миша — самый маленький, месяц исполнилось, когда убегали в Ташкент. Еще Костик… да, Костик… ходить пробовал, и Гаврюша… И чуть не забыла — Митя! Выходит, восьмерых они в Ташкенте схоронили. Да, они же их по двое в гроб клали! Восьмерых — вот!.. В старину здесь семьи были крупные — не только из-за неумения уберечься от беременности. Детьми много погибало и не меньше — в войнах, уже взрослыми. Нас до шестнадцати лет дожило семеро. Из этих семерых пятеро полегли в гражданскую и отечественную. Константин Данилович умер шестидесяти. Настасья Даниловна — в том году ее похоронили, пятидесяти пяти. А как при такой жизни нашему поколению долго жить?.. И никого больше из нашего рода, я одна…
«Господи, горя!.. Никифором и нас травили. Папе же из-за меня в первом ордене Ленина отказали. Вызывали по службе: вот представление, но… у жены родственнички разного цвета. Пошлем, если разведетесь с женой. Отец уперся! „Что хотите, — не брошу семью“. Я умоляла: „Не губи из-за нас жизнь! Бери развод!“ А папа ни в какую! Запретил даже заикаться об этом… Я думала: зачем они столько убивают, зачем наше горе?.. А чтоб испуг не проходил! Чтобы память не имели! Чтоб оглохли, ослепли, от себя отказались! Чтоб все на один манер преданы и вроде кукл на чувства!.. Иван? Перебивался в городе, в станицу боялся сунуться. Своих заметит на улице, сворачивает… И война! Краснодар немцы неожиданно взяли. По радио нас уверяли, будто Кубань на стальном замке, фашисты не пройдут… Иван много красноармейцев на Кавказ тропами вывел. Потом партизанил. Он же из пластунов. У него наших орденов, медалей! Его пощадили после войны, а Данилу Прокофьева через три месяца после возвращения с фронта забрали. Отвоевал, три ранения, ордена, а его — в лагерь. Там и умер. Из лагеря взяли, в лагере и сгноили! А какой он кулак? Да разве ж враг стал бы свою кровь проливать?! Иван без судимости — это и спасло. Сталин потому и поблагодарил русский народ в тосте на банкете после парада Победы. Выдержать такую кровавую баню от своих, переумирать от нищеты и надрыва — и не поддаться фашизму! Вот это любовь к родной земле! Такое даже Сталину показалось необычным, вполне героическим. Сами-то они и доли не хватили от народного горя — ни в молодости, ни потом… Ивану, как партизану, и отвели участок. Этот дом он с Гаврюшей ставил. Продажей раков деньги выручал. Гаврюша тоже воевал, но вот холостым зажил… А как иначе на такую семью заработать? Опять грузчиком? Иван куда старше меня. Пенсия? Доходяга едва протянет, а не семейный человек; у Дарьи и вовсе никакой пенсии: не работала. А как работать, если родила девятерых и после еще пятерых? С Дарьей они дружны и любовны всю жизнь. Свадьбу справляли! Еще задолго до империалистической войны, я совсем девчонкой запомнила… Двор у деда Гордея был раздольный, а тут тесно от столов. Иван в нашем, казачьем: алый бешмет, черная черкеска с подсеребренными газырями, кинжал. Дарья в фате. Честь по чести свадьба… Будь осторожен, сынок. Сколько ж людей к нам подсылали! Григорьева… Да, да, твоя классная руководительница! Ты с ее сыном Юркой дружил… Писала ежемесячно отчеты о нас. Твой отец говорил: не лгала, в главном — честна. А соседка по квартире — Марья Ивановна — сочиняла! Вот тот обыск, когда у нас мыло резали, ее работа. Это папа узнал, когда его послом назначили. Он к многим документам допуск получил…»
Уже за полночь — под стеклом на облупленном циферблате, где должна быть цифра «два», стрелки моих наручных часов. Они так стары — лишь я различаю цифры. Часы носил папа, теперь я — в память о нем.
В нашем шепоте кажутся необыкновенно звучными кружения и падения ночных жуков, мягкие налеты мотыльков на стены и лампу. Плоска и совершенно непроницаема ночь в прямоугольнике окна. И в ней, и далеко за ней тускло отливает острой сталью топор революции.
10
Я без обиняков, нагловато, всучиваю начальнику вокзала паспорт. Это мамина реликвия. Давно просроченный и вообще ненужный паспорт. Начальник уже побагровел, оттопырил нижнюю губу, чтобы обругать меня, я слышал, как он это умеет, а теперь съеживается, опадает в плечах и послушно берет мамин le passeport На какое-то мгновение этот семенной огурец цепенеет. Потом, ни о чем не спрашивая, пятится. Когда он отворяет дверь, нас обдает колготным шумом, бранью — там очередь за билетами. Вернее, ее самая бешеная и самоуправная часть — та, что уже видит стену с кассовыми окошками. Простые бабы, степенные дамы, пенсионеры, молодые мужчины и подростки — все сквернословят на один лад, все грубы и безжалостны. Это во всех отношениях слепая кишка, только это кишка непомерно разбухшая, уже бесформенная. Здесь люди не стоят в очереди. Здесь очередь жует людей. Стыда нет — есть цель: билет! И нет у этих людей других слов для объяснений, кроме похабных. Когда я пробивался к двери начальника вокзала, я не встретил ни одного милиционера. Их вообще нет в зале. Да и что они против единодушия толпы! Обращаю внимание на глаза людей — белые…
Я не убедил маму, а просто вынул у нее паспорт. Но она позади меня, потому что робеет перед властями, вообще всякими. А я знаю: паспорт сработает. Документ что нужно: целая книжица в добротно-элегантном переплете с золотым тиснением: «СССР, Дипломатический паспорт» — и гербом. Она раза в два крупнее обычного. Когда крупнее, это уже хорошо почти в любом деле… Этот паспорт мама получила для поездки в Рангун. Там мама пробыла с отцом около полутора лет. И с паспортом она не расстается, как и я с часами, — в память о нем. Его убили. Но прежде его отравили, и он мучился и болел четыре с половиной месяца. Папу убили за то, что он много знал и был порядочен и удачлив в работе.