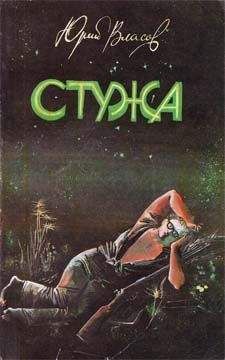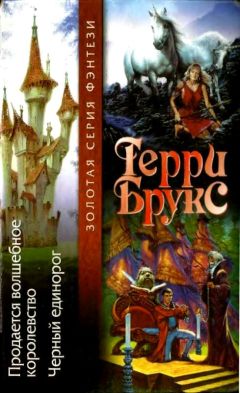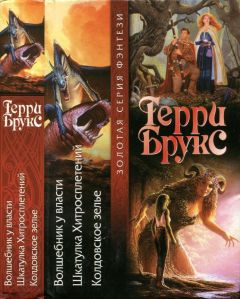Уже за полночь — под стеклом на облупленном циферблате, где должна быть цифра «два», стрелки моих наручных часов. Они так стары — лишь я различаю цифры. Часы носил папа, теперь я — в память о нем.
В нашем шепоте кажутся необыкновенно звучными кружения и падения ночных жуков, мягкие налеты мотыльков на стены и лампу. Плоска и совершенно непроницаема ночь в прямоугольнике окна. И в ней, и далеко за ней тускло отливает острой сталью топор революции.
10
Я без обиняков, нагловато, всучиваю начальнику вокзала паспорт. Это мамина реликвия. Давно просроченный и вообще ненужный паспорт. Начальник уже побагровел, оттопырил нижнюю губу, чтобы обругать меня, я слышал, как он это умеет, а теперь съеживается, опадает в плечах и послушно берет мамин le passeport На какое-то мгновение этот семенной огурец цепенеет. Потом, ни о чем не спрашивая, пятится. Когда он отворяет дверь, нас обдает колготным шумом, бранью — там очередь за билетами. Вернее, ее самая бешеная и самоуправная часть — та, что уже видит стену с кассовыми окошками. Простые бабы, степенные дамы, пенсионеры, молодые мужчины и подростки — все сквернословят на один лад, все грубы и безжалостны. Это во всех отношениях слепая кишка, только это кишка непомерно разбухшая, уже бесформенная. Здесь люди не стоят в очереди. Здесь очередь жует людей. Стыда нет — есть цель: билет! И нет у этих людей других слов для объяснений, кроме похабных. Когда я пробивался к двери начальника вокзала, я не встретил ни одного милиционера. Их вообще нет в зале. Да и что они против единодушия толпы! Обращаю внимание на глаза людей — белые…
Я не убедил маму, а просто вынул у нее паспорт. Но она позади меня, потому что робеет перед властями, вообще всякими. А я знаю: паспорт сработает. Документ что нужно: целая книжица в добротно-элегантном переплете с золотым тиснением: «СССР, Дипломатический паспорт» — и гербом. Она раза в два крупнее обычного. Когда крупнее, это уже хорошо почти в любом деле… Этот паспорт мама получила для поездки в Рангун. Там мама пробыла с отцом около полутора лет. И с паспортом она не расстается, как и я с часами, — в память о нем. Его убили. Но прежде его отравили, и он мучился и болел четыре с половиной месяца. Папу убили за то, что он много знал и был порядочен и удачлив в работе.
…Ура — билеты! Я три дня возвращался без билетов. Я даже приезжал к четырем утра — все равно на площади у вокзала роилась толпа, такая же черная и руготная. Она и не рассасывалась. И сыскать ее конец невозможно, а если сыщешь, то все равно очередь не движется, а, наоборот, как-то толстеет, упрочается. После первого сентября — начала занятий в школах — уехать просто, но сейчас это почти невозможно. Билетов меньше, чем людей. Я бы подождал, однако первого сентября в восемь утра я должен явиться в строй…
Мама промокает платком виски. Ей не по себе оттого, что она имеет дело с властями и дело незаконное. Паспорт уже как три года не действителен. Достаточно посмотреть на числа. Но начальник не посмотрел. Уверен, за всю свою жизнь он впервые видит такую книжицу. Под ее магией он приносит два билета, да еще в мягкий вагон. Quel dommage que vous ne parliez pas français!..[7] Фраза готова сорваться с языка. Я улыбаюсь. Мне очень приятно. Все так славно. Начальник даже сам принимает плату, дабы не обременять знатных визитеров.
Я плачу, собственно, за один билет. У меня — воинский, бесплатный. Нужно лишь доплатить за проезд в мягком, сущие пустяки. Славно, когда начальники не интересуются цифрами. Впрочем, там такие гербовые печати, такие штемпеля виз — осилят и не такого! Ах, семенной огурец, семенной огурец…
Пока я отсчитываю рубли, мама прячет диковинный паспорт. Начальник вокзала не ведает, как себя вести, и на всякий случай помалкивает. Я тоже молчу.
У начальника недоброе, багрово-загорелое лицо, на которое он тщится напустить любезность; голубая рубашка на зыбко-пухловатой груди темновата по́том; брови белесы, а сам он короток и рыхловат, будто налит в брюки… Nous vous remercions de votre aimabie attention![8]
— Большое спасибо, — говорит мама.
— Обращайтесь, рад услужить.
— До свидания.
— Счастливого пути… Не надо, не надо — я дверь на крючок. Народ — хам! Прет! Охамел теперь человек!.. Да, да, счастливого пути…
Лицо начальника совсем рядом: по-бабьи безволосое, мягкое, из множеств подбородков — и все в мутноватой потной водице. От него разит смесью одеколона и водки. Этот букет Костя Леонтьев называет «мужская честь», правда, не хватает табачной отдушки.
Мы затворяем дверь. Жарко, бесцеремонно налегают тела. Мама прижимается ко мне сзади, а я пядь за пядью пробиваюсь к выходу. Глухой низкий гул почти лишает слуха. Воздух кисл по́том. В коридорах, на лестнице и помещениях совершенно нечем дышать. Мокрые лица, мокрые руки, плечи… И еще табак!.. Я ненавижу табак.
Какая-то женщина взвизгивает: «Бык!» Я краснею, в то же время мне обидно. Я ступаю осторожно, умеряя капор толпы.
— Бык! Бык!.. — У женщины белые, блестящие глаза, отчего взгляд кажется слепым, и банно-красные пятна по лицу, оголенной шее, верху груди. А на самом лице какая-то сухая, жесткая судорога, истеричная отрешенность.
— Ничего, сынок, ничего…
— Бык!.. Сволочь стоеросовая!.
— Господи, что она?..
Впрочем, я привычен. В войну мама маялась туберкулезом, и очереди выстаивал я: многие часы среди плевков, матерщины, махорочного дыма и давки. Я был по-детски маловат ростом, и меня душили… вонючие спины. Они действительно были вонючие. Одежда стоила невероятно дорого. Бани не работали. В домах — холод: каждая комната отапливалась самодельной печкой. Помыться — целая история, так же как достать мыло для стирки. И очередь именно воняла, и чем ниже ты находился, тем внятнее был запах. И еще воняла вода. Снег стаивал, и по щиколоть стояла вода. Черная, густая жижа… С этими запахами свыклись и относили их к естественным. Хуже, когда я из очереди приносил вшей. Досмотр мама устраивала на кухне: волосы, все складки и швы…
Часто в очереди мне едва хватало дыхания: взрослые тащили меня, стиснутого, полузадушенного. Но непременного озверения давка достигала у входа в магазин, здесь толпа вминалась в одну створку двери и следовало держаться любой ценой, иначе тебя просто вышвыривали, что и случалось со мной не раз. Я достиг такой цепкости — меня скорее можно было растоптать, но только не вырвать из очереди, хотя одна рука всегда была занята: я держал в руке карточку. Ведь именно в этот момент начинали шуровать карманники. Им не стоило сопротивляться — они «писали» бритвами, однако на карточку я не позволял посягать никому. Я держал ее намертво. Без нее нам если не смерть, то лютый голод… И все же однажды, когда уже другая толпа вышвырнула меня из электрички, я заплакал. Электричка останавливалась у станции Покровское-Стрешнево. Все в войну спешили — с трамваев, поездов, автомашин спрыгивали на ходу… Я сел в Павшино и поневоле оказался у двери. Толпа наперла и как будто выплюнула меня на перрон.
Как я мог прыгнуть, если мне было всего десять лет, а электричка еще бежала вовсю? Я вылетел из двери и шлепнулся на живот… да и сломал руку. Люди расходились, и никому не было дела до меня. Я заплакал, тихо заплакал, но не от боли: пролит был весь бидончик с молоком — еда на несколько дней! Я забыл про боль и смотрел только на молоко, его затоптали не всё. Я готов был слизывать его. Что же это?!..
Мы очень недоедали. Мама не получила продовольственный аттестат за папу, хотя он офицер и был на фронте. Кто-то не мог достать его, то есть свести счеты, и мстил… нам. И мы голодали. Хуже нет голодного бреда, этого полусумеречного блуждания по комнатам. С тех пор-то я и жадноват к еде. Я ем очень быстро и до невозможной сытости. И если я сыт — все равно поедаю пищу глазами.
Уже в полночь, когда развяленные зноем пассажиры уснули на сквозняках под дерганье сцеплений и уханье дверей, я вышел в тамбур, толкнул наружную дверь — она неслышно и степенно отошла. Звонко, дробно замолотили навстречу колеса и парусом налег ветер. Я захлопнул дверь за спиной и опустился на ступеньку. Ночь уносила смутные очертания предметов. Воздух отдувал рубашку, холодил кожу, заставлял щуриться. Я присмотрелся: за ночью — чернота деревьев, степная бездна… Мигали огни. Шумом, рябью света наскакивали полустанки. Взметывалась в вихре под фонарями листва, ударяли стыки. Этот удар подхватывали остальные вагоны. И снова очень тугой, горючий ветер надавливал на меня.
Нащупываю медальончик, сжимаю в ладони. Цепочка режет шею. Вдруг явственно принимаю ту женщину всем телом. Твердый выкат «браслета» по низу живота, метание мягких губ по лицу, шее, плечам. Бесстыдную ласку ее рук… В памяти от земли к небесам в черноте ночи призрачно реет столп — это наши чувства.
Я вроде венчаный.
Я и в самом деле венчаный, но кто она, как зовут, где найти?