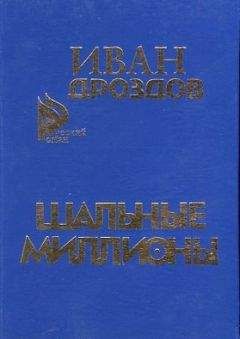— Мало ли? И куртка нужна. Вдруг дождь пойдет, а мне простывать нельзя, организм ослаблен.
— Ах, да, я забыла, вы же все-таки хворый.
— Я уже не хворый. Здоров. Вполне здоров. Повертел перед носом радиотелефон, маленький, изящный, с красными кнопками.
— У вас есть такая игрушка?
— Нет.
— Ну так вот вам. И еще один дам, запасной. Прекрасная штука! Мне доставили дюжину из Японии. Дальность действия — триста километров. И слышимость хорошая. Берите. Мне хочется сделать вам что-нибудь приятное. — Он снова засуетился, полез в стол, в шкаф. — Вот еще… — он вынул из письменного стола другой аппарат, тоже маленький и очень красивый. — Это приемник мощный, многоволновый и в нем же магнитофон двухкассетный. Тоже новинка. Самый-самый… Возьмите, пожалуйста.
Анюта не стала упрямиться, взяла и приемник. Они пошли к лифту.
Борис говорил без умолку, был восторжен, не скупился на комплименты.
— Вы меня перехвалите.
— Нет, не перехвалю. Я давно хотел, очень хотел, — вот так, поближе, дружески.
— Кто же вам мешал?
— Никто не мешал, но жизнь… вы же видите: не знаю ни дня, ни ночи. Перед глазами калейдоскоп. Вечно куда-то несет и нет минуты покоя. Вот только теперь… Смотрю в окно или с балкона и вижу, как вы хорошо, и умно, и, должно быть, интересно живете. Вы отличный пловец, катаетесь на автомобиле, на катере и, говорят, мастерски его водите. У вас есть ваша станица и там родные люди, там Дон, леса… А скажите, у вас есть домик? Или у отца, у матери, — домик, родной, теплый, свой? Не такой вот «Шалаш», — чужой, большой, неуютный. А? Есть домик?
— А как же без дома? Есть, конечно. И стоит на крутояре, над Доном.
— О, счастье! А я никогда не имел домика. Такого домика, как у вас. Были квартиры, дачи, — и сейчас есть, но домика, теплого, уютного, с печкой и маленьким окошком — не было. Нет-нет, я не хочу жить по-старому. Я не поеду ни в Варну, ни в Питер, ни в Америку, — везде я чужой, никому не нужный, непонятный. И мне все чужие. Вы покатайте меня, Анечка.
— Пожалуйста, я с удовольствием.
Проходили мимо Малыша, — он лежал на коврике, загорал.
— Борис Силаевич хочет покататься, — словно извиняясь, сказала Анюта.
Борис, увлекая ее, добавил:
— Да-да, Аня меня покатает. Мы скоро вернемся. Малыш тоже был не прочь покататься, но знал: Борис влезет в рулевую кабину, сядет с Анной. Он всегда говорил: «Только здесь, я хочу рядом с капитаном».
Малыш сказал себе: «Пусть покатаются, а мы с Аннушкой поедем потом, — далеко поедем, на весь день». И завалился на спину, закрыл глаза.
Анна оттолкнула катер, вспрыгнула на борт. На малых оборотах выходила из канала. И затем, на просторе, взяла быстрый ход, устремила «Назон» в открытую прибрежную зону. Хотела идти на Констанцу, но подумала: «Увидит Костя, будет ждать, а я не причалю».
Круто развернулась, взяла курс на Варну. Знала, что недалеко отсюда пограничная полоса, но сторожевые катера редко кого останавливают, — граница по морю символическая, в сущности, не охраняется.
Борис, наклоняясь к Анне, что-то говорил ей на ухо, но работающий на больших оборотах двигатель заглушал его голос. Анна прибавляла ход. Ей сегодня хотелось испытать катер на почти предельной нагрузке обоих двигателей. Погода стояла тихая, день был безоблачный, волна, хотя и рябила в глазах и дробно стучала о днище катера, но скольжению не мешала.
Выбрав мощность поршневой группы, Анюта включила турбину, и катер потянуло вперед, словно невидимая могучая рука приподнимала его над морем. И «Назон» вздыбил нос, волна уже не стучала по катеру, а разлилась по корпусу мелкой дрожью, хватала за нижний край палубной обшивки. Анюта вывела турбину на половину мощности, — дальше рычаг никогда не подвигала, катер и без того несло со страшной, пугающей силой. «Назон» все выше задирал нос, точно хотел встать на край кормы, волны по сторонам погасли, катер все реже касался воды и глухо, надсадно стонал. Анна изучала гидрологию, знала коварство гидродинамических ударов и опасалась дальше прибавлять скорость, но бес озорства и любопытства подзуживал ее увеличить обороты турбины. В зеркало видела растерянное лицо примолкнувшего Бориса, — и его еще хотела припугнуть.
Медленно подвигала рычаг оборотов вперед, и турбина свой обычный воркующий рокот меняла вначале на прерывистый стон, а затем — на ровный звенящий гул, удары под кормой становились резче, но реже. И вот что было ей любопытно и что она не могла объяснить: нос «Назона» перестал задираться, наоборот, он будто бы сник, припал к поверхности моря, и катер, точно скаковая лошадь на последних метрах дистанции, вытянулся в струнку, птицей летел по воздуху.
Анюта почувствовала боль в руке, обернулась и увидела припавшего к ней Бориса, — он как клещами вцепился ей в руку, словно боясь вылететь из кабины. Анна сбавила обороты и, любовно оглядывая приборы, думала о «Назоне»: а если турбину его вывести на предельные обороты? Он, наверное, взлетит на воздух, но вот опуститься плавно и на всю площадь днища не сумеет. И тогда, как говорят станичники, не соберешь дров. Взглянув на Бориса, сделала вид, что страха его не замечает. Развернула «Назон» и они уже на меньшей скорости пошли к «Шалашу».
Вряд ли теперь Борис захочет когда-нибудь вновь с ней покататься. Подумала об этом и улыбнулась. Ее женское честолюбие торжествовало. Она любила себя в такие минуты.
Прогулка на катере встряхнула Бориса, он ожил, взбодрился, он словно на экране увидел иную жизнь — яркую, необыкновенную. Это был миг, но миг полета, миг страха, риска и вместе с тем сладостного ощущения победы над силами, которые составляют суть природы, ее тайну.
Сходя на причал, он вежливо поблагодарил Анну, но ничего не сказал о своем восхищении искусством ее вождения, о том, что он испытывал. Грудь переполнялась восторгом, вдруг проснувшейся жаждой жизни. Он выбрал пустынный клочок пляжа, лег на спину, стал смотреть в небо. Думал об Анне, только о ней. Он часто видит ее с Малышом, но значит ли это… Приподнялся на локтях: ни на пляже, ни в море, ни в беседке никого не было. «Что они делают? Чем заняты?»
Краем уха он слышал, что Малыш купил несколько типографий, там печатают Анютину книгу. Книгу?.. На разных языках? И, наверное, печатают в немалых количествах. И продают недешево!
Мысль эта точно толкнула в грудь. Бизнес! Это же бизнес! Чистые деньги! Где хочешь храни, на что хочешь расходуй. И никто не спросит, не станет придираться.
Почувствовал жар в голове, по телу пробежал озноб. Его обошли! Из-под носа увели такое дело. Ведь он знал Анну раньше Малыша и читал ее книгу. И еще думал: «Совсем юная девушка, а как написала!» А один его приятель из Америки, увидев Анюту, сказал: «У меня есть в Голливуде знакомый режиссер. Мы можем ее продать». — «Кого продать?» — не понял Борис. «Ее продать, подружку твоей жены. Ты посмотри, какая фактура!»
Борис тогда сказал приятелю: «Она писательница. Не продается». На что приятель, а он был циник, как все приятели Бориса, заметил: «Люди все продаются. Писатели — тоже. Но чтобы я поверил, что эта краля — писательница, — извини, ты об этом скажи кому-нибудь другому».
Борис не стал уверять приятеля и искать «кого-нибудь другого» тоже не стал; он знал своих друзей — и тех, кто живет в Союзе, и тех, кто уехал и живет в другой стране, — знал их агрессивный нрав, ядовитый скепсис и врожденный цинизм: они ни во что не верили, всех презирали, даже близких друзей, и на все доводы о наличии чего-нибудь святого и высокого в другом, особенно если это был гой, отвечали: «Не делай из меня дурака, я знаю гоев, они все скоты». Иванов в таких случаях замолкал, в нем вздымалась волна негодования: отец-то его, Силай Михайлович, был гой, и, следовательно, он, Борис, тоже был наполовину гой, и оскорбление гоев он принимал и на себя, готов был ответить грубостью, но в нем жила и половина от матери, эта половина вдруг поднималась из глубин его существа, ласково улыбалась, говорила: «Умерь свой пыл, Борюшка, я твоя мать, а человека в нашем мире судят по матери. Вот если меня оскорбят, ты уж тогда постой за меня. Таким оскорбителям спуску не давай».
Гладит его по голове эта материнская половина, и он скоро приходит в себя. И успокаивается, и ему снова становится весело и приятно жить на белом свете.
Малыш для него был гоем, а если гой, то, значит, неумен, неловок, ленив и ни к чему не способен. Гоя легко опередить, обмануть, обвести вокруг пальца. Но как же случилось на этот раз? Он, Борис Иванов, сын своей мудрой матушки и внук еще более мудрого дедушки, — как же это он так банально и нелепо опрокинулся, позволил гою увести из-под носа такую добычу?
Мозг его лихорадочно работал. Он искал пути исправить положение, перехватить в свои сети уже пойманную другими огромную драгоценную рыбину.
Нетерпение подняло его на ноги, он пошел к лифту. И, поднявшись, позвонил на половину Нины.