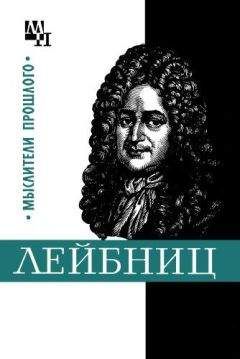Таким мыслям предавался наедине с самим собой курфюрст, покручивая оставленный хозяйством Афсиомского глобус и останавливая его всякий раз верным пальцем в верном месте. После отъезда гостей он въехал в покои императорского посланника барона Фон-Фигина. Ему пришлась по душе их ненавязчивая роскошь, а больше всего — по секрету — то, что в разных углах обширного помещения наталкивался он на дамские панталончики. Он складывал их в скрытные ящички за книгами библиотеки и иногда извлекал то одну, то другую шелковистую невесомость, дабы погрузить в нее свой готический нос. Запахи далекого, а все-таки, как мы видим, и не совсем далекого Петербурга будоражили воображение и исторические амбиции этого, казалось бы, уже замшелого монарха.
Между тем в отсутствие гостей, а в особенности без графа Рязанского с его бездонным бюджетом, замок начал стремительно приходить в упадок. В парке откуда ни возьмись появились и повсеместно разрослись большущие, как слоновьи уши, лопухи. Пруды затянуло тиной, столь плотной, что коты и лисы пробегали по ней, ни однажды не замочившись. Забыв свой патриотический долг, садовники перестали обихаживать недавние насаждения. Да и вообще перестали появляться среди насаждений оных. «Их надо возвращать и сечь!» — распорядился курфюрст. Министр внутренних дел племянник Хюнт развел руками: «Кем сечь, Ваше Высочество?»
«Чем сечь? Министр режима должен знать, чем непослушанцев секут! Розгами! А злостных — фухтелями!» — «Не чем, а кем, Ваше Высочество, вот в чем вопрос. Те, кому по службе положено сечь, тоже разошлись». Обескураженный курфюрст забегал по своему любимому кабинету. «Да что же получается, Хюнт? Почему весь этот сброд разбежался?» Долговязый племянник всунул голые ноги в деревянные башмаки: кожаные туфли не носил из экономии. «А вот этот вопрос надобно обратить к министру финансов, кузену Людвигу, Ваше Высочество. Неоплаченный народ, по своему обычаю, разбегается. Остаются только родственники».
Не лучше обстояло дело и с питанием. Огромная кухня, в коей еще недавно кудесничали нанятые Афсиомским шеф-повары, просто повары и младшие повары, отвечающие по отдельности за закуски, супы, главные блюды и дессерты, кухня, шипевшая ароматными парами, трещавшая масляными пузырями, оглашаемая бодрыми возгласами на поварском жаргоне столетия «Ж'арив!», «Вуаля!», «Аллез'и!», теперь лишь гудела зловещим хладом, если он может гудеть, этот проклятый хлад, а он может, буде соединен с заунывным гладом.
В начале «эпохи забвения» — как иной раз про себя именовал сию историческую ступень Магнус Пятый — из кабинета министров поступил на кухню намек, что старания кулинарных патриотов будут вознаграждены: каждому в конце дня будет разрешено угощаться из не до конца востребованных кастрюль. Речь шла, конечно, о картофельном супе «Воляпюк», который дольше других изысков подтверждал свою живучесть. Вот именно после этого щедрого предложения кухня и опустела окончательно, а остатки «Воляпюка» превратились в застывшие на дне кастрюль нечистоты.
Несколько дней прошли без горячего. Курфюрст облачился в стальные доспехи. В правительстве, то есть в семье, начались разговоры, не готовит ли монарх набег на какое-нибудь соседнее государство, однако он объявил, что принял важное решение в области укрепления собственной Цвейг-Анштальта-и-Бреговины национальной идеи. Будет создан большой портрет государя в боевом «отпаде», как тогда в элитарных кругах называли стальные доспехи. Работа будет поручена двум самым талантливым живописцам двора, принцессам Клаудии и Фиокле. Готовый оригинал портрета с увеличенной яркостью глаз будет выставлен в новой столице на острове Оттец, а несколько копий разместятся в магистратах по обе стороны пролива. Граждане будут допущены на просмотр за умеренную, но и не символическую плату. Таким образом им будет дана возможность укрепить патриотизм, а заодно и казну обожаемого государства. Далее вступит в действие секретная часть плана. Собранные деньги как раз и пойдут на разгром какого-нибудь соседнего герцогства. Скажем вперед, что этот секрет так и остался в самом узком кругу, то есть у курфюрста за пазухой.
Девочки пришли в восторг. Давно уж они не писали парсун маслом в две руки. Сердечное томление отвлекало от искусства, и вот теперь появилась возможность заполучить в качестве модели вечно занятого папочку, и даже романтические шевалье были забыты. Холсты, кисти и краски были, разумеется, найдены в запасах генерала Ксено, дальновидного до чрезмерности. И вот троица уселась. Боже, замирали принцессы, как он хорош, этот наш курфюрст, сколько силы может живописец обнаружить даже в его носогубных морщинах, не говоря уже о высоком его челе, вмещающем толь много вдохновенного гуманизма! Что уж тут тужить о горячих обеденных сервировках, можно и сухими бисквитами обойтись, ежели все обыденное забываешь, трудясь в искусстве!
А папочка на сих сеансах едва ли не впадал в сущий родительский трепет. Дочки мои, удвоенный вариант девичьего, да что там, просто человеческого совершенства; какой монарх не поблагодарит судьбу за сей дар небес! Как же так получилось, что я не могу им обеспечить даже горячего питания?! Да я хоть треть нашего пфальца отдам за то, чтобы вздуть огни на кухне, если не дотянем мы до обещанного Фон-Фигином векселя из Петербурга!
И вдруг оказалось, что можно еще повременить с продажей Бреговины, и произошла сия передышка благодаря героическому подвигу курфюрстины Леопольдины-Валентины-Святославны. Однажды воскресным утром она вышла из замка во главе целой компании статс-дам и фрейлин двора, то есть своих родственниц по линии супруга. Вся эта группа, персон не менее дюжины, в затрапезных платьях пешком проследовала в Цум-Линденбрюгге, крошечный городишко рыбаков и овощеводов. Там в тот день все население острова Оттец собралось на базар и молебен в единственной кирхе. Публика была потрясена явлением курфюрстины со свитой. Затрапезные, то есть вышедшие из моды, одеяния показались островитянам верхом роскоши, французскому языку они внимали, как стрекотанию ангелов. Преклонив колени в скромном храме, дамы проследовали в торговый ряд и там обменяли несколько пустяковых колечек на количество лососей и овощей, достаточное для заполнения двенадцати объемистых корзин.
Сей, собственно говоря, первый в истории поход «в простые люди» невероятным образом взбудоражил и вдохновил участниц. Курфюрстине не пришлось убеждать их в пользительности деяния и упрашивать о продолжении усилий. С веселым гоготом гусынь дамы устремились в кухонный зал и вздули там еле тлеющий огонек айне гроссе гастрономи. Плита загудела. На шум, бросив рисование любимого папочки, прилетели курфюрстиночки и, подоткнув парижские платьица, взялись за швабры. В конце концов на помощь высшим дамам отчизны спустились и чопорные горничные. Некоторые еще помнили, как чистят рыбу. Так впервые за две недели в Доттеринк-Моттеринк был приготовлен горячий ужин.
Все пошло если и не хорошо, то вполне сносно. Мужчины, снисходительно похваливая дам за благотворные связи с новыми подданными, после сытных, хоть и слегка подгоревших, чуточку пересоленных ужинов собирались в каминной, где еще недавно звучал звонкий старческий глас Вольтера, и обсуждали кое-какие военные планы на случай изменения геополитической толи экспозиции, толи диспозиции. Все почему-то связывали эти планы с возвращением каких-то «наших». Вот наши вернутся — и тогда все будет яснее. Да, с приездом наших разберемся в этой довольно хитрой ситуации. Может быть, наши еще недостаточно опытны, но уж решительности-то у них не отнимешь. Те, кто дрался под Цюкеркюхеном, значит все присутствующие, помнят атаку наших, не правда ли, господа? Помните, как замелькали эти желтые с синим накидки? Мы-то думали, шведы нам бьют в задницу, а это, оказывается, наши со своими гусарами скачут. В этом месте любой, даже невнимательный читатель смекнет, что за словцом «наши» скачут не кто иные, как юные шевалье вольтеровского эскорта, Мишель и Николя.
И никто почему-то не задается вопросом, зачем этим уношам возвращаться на заброшенный островок, всем и так вроде бы ясно, что скачут, скачут на своих мифических конях, чтобы припасть к чьим-то туфелькам, поцеловать краешек платья, раствориться в любовном блаженстве.
Увы, раньше наших унцов на остров возвратились те, кого меньше всего ждали.
Однажды ночью Магнус Пятый проснулся, услышав долгий, будто бы даже бесконечный, идущий снизу, вот именно из утробы, и поднимающийся до самых верхних альвеол вопль своей супруги. Вскочил, налетел в темноте на кресло, зажег свечу, понес ее перед собой, побежал на дрожащих ногах, ничего не понимая, а только лишь взывая к Тому, в ком всегда сомневался. Никогда прежде сдержанная цесаревна ничего подобного из себя не извергала, даже при мучительных родах двойняшек, когда он сам чуть не отдал душу Тому, в ком сомневался.
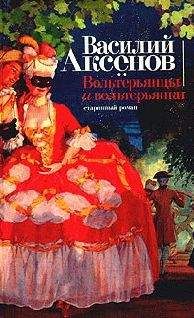
![Александр Прозоров - Трезубец Нептуна [= Копье Нептуна]](https://cdn.my-library.info/books/108530/108530.jpg)
![Александр Прозоров - Трезубец Нептуна [= Копье Нептуна]](https://cdn.my-library.info/books/107258/107258.jpg)