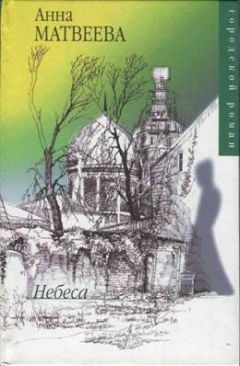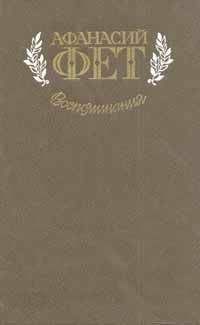Священнослужители, защищавшие владыку и прикрывавшиеся возвышенными словами, делали это из самых низких побуждений. Свое равнодушие они называют «смирением», малодушие — «послушанием», а личную, корыстную преданность падшему епископу — «канонической верностью Матери-Церкви». Призываем их к покаянию, умоляем их встать на защиту Православия!
Возлюбленные ревнители благочестия! Верность Матери-Церкви состоит в нашем бдительном хранении и следовании Апостольскому и Святоотеческому Преданию, а не в личной преданности тем или иным епископам, ибо они могут ошибиться и согрешить. Мы же отвечаем не только каждый за себя, но и за всю Церковь. Смиряйтесь пред Богом и Святоотеческим учением, но будьте непреклонны перед злом и диаволом!
Вспомните пророчество преподобного Серафима Саровского: «Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли Русской и прочие духовные лица уклонятся от Православия во всей его чистоте, и за то гнев Божий поразит их. Три дня стоял я, просил Господа помиловать их и просил лучше лишить меня, убогого Серафима, Царствия Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учением и заповедям человеческим, сердца же их будут далеки от Меня».
Петрушка получил нотариально заверенное право звать меня мамой: теперь этот маленький человек, в неделю лишившийся обоих родителей, занял главный трон в моей жизни.
Прежде меня нисколько не интересовали дети. Многие мои ровесницы давно обзавелись потомством, разместив семейные гены в крохотных существах. Мать соученицы однажды заманила меня в гости, так хотелось похвастаться недавно родившей дочкой. Та одной рукой удерживала младенца на весу, другой приподнимала левую грудь, чтобы ребенку было удобнее сосать. Интимная сцена вызвала раздражение: зачем мне знать, как выглядит раздутая грудь одноклассницы, к которой намертво прирос младенец — я не успела понять, мальчик или девочка. Некрасивый, в мелких красных пятнышках ребенок сосал грудь так яростно, что глаза у него закатывались, а халат матери намок от молока — оно просачивалось наружу бесформенным пятном, как если бы сарафан надели поверх мокрого купальника. Я не умилялась, а поскорее сбежала — в мир без детей.
Я думала, что не хочу стать матерью. И ошиблась — как обычно.
…Сашенькины похороны сильно растянулись во времени — так растягиваются свадьбы, призванные приветить всю родню. Прах выдали не сразу, и половину бывших на кремации людей смыло в будничную жизнь. Даже отец не дождался: Лариса Семеновна объясняла по телефону, что «ему прихватило сердце». Тяжеленькая урна, выданная мне под роспись, не имела к сестре никакого отношения — в ней могло находиться что угодно. Урну я везла домой троллейбусом, в пластиковом пакете с Моной Лизой.
В письме Сашенька просила развеять ее прах рядом с могилой мужа, она не поленилась прописать этот завет отдельной строчкой. Все, что касалось ее похорон, было описано очень четко, даже судьба Петрушки не дождалась настолько подробных распоряжений.
Завещания у сестры не имелось, а вот Лапочкин свое составил. Квартиру, автомобиль «БМВ», банковские счета в Люксембурге и Цюрихе Алеша завещал жене Александре и сыну Петру. На книжные тайники документ даже не намекал.
Носастая матерая юристка долго крутила листы завещания: мне казалось, она хочет свернуть из них самолетик, да и выпустить на волю из открытого окна. Наконец юристка разлепила губы и молвила, что я становлюсь официальной Петрушкиной опекуншей, а также распорядительницей унаследованного ребенком имущества. «Имейте в виду, гражданочка, после таких людей остаются приличные долги», — предупредила юристка, выцарапывая из пачки сигарету.
* * *
Встречаться с юристкой мне пришлось едва ли не сразу после похорон — мама опасалась претензий со стороны Лидии Михайловны и всячески торопила оформление наследства. Это была рядовая инерция — мама подталкивала меня, а маму, в свою очередь, толкала Бугрова, желавшая угоститься наследным пирогом. Увы, мадам была беспредельно жадной и дурела от близости чужих денег так, как форель дуреет от запаха красной икры.
Что до Алешиной мамы, то она не выказала никаких дурных качеств. По завещанию Лапочкина ей отходила немаленькая сумма денег, а я, поразмыслив, отдала ей «БМВ». Петрушке автомобиль был покамест ни к чему, я же никогда в жизни не поменяю беззаботное пассажирское кресло на каторгу за рулем. Единственное, с чем заспорила Лидия Михайловна, — это с Сашенькиным желанием развеяться по воздуху.
— Я понимаю, мы должны уважить смертную волю. — Она выдавала каждое слово, как мелкую монету в кассе. — Но если они в жизни лежали вместе, пусть и после будут рядом. — Лидия Михайловна расплакалась: — Куда же, Глаша, я буду к ней приходить? И так схоронили неотпетую!
Я крепко обняла эту чужую тетку.
…Рядышком с Алешиной могилой вырыли еще одну яму: туда легла урна, и ее быстро, словно стыдясь, закидали землей — мама почти не плакала, и только Лидия Михайловна старалась за обеих. Я держала ее под руку, Лидия Михайловна сильно вспотела, и ладони мои долго пахли ее потом.
Как в крематории, я опасалась увидеть среди скорбящих Кабановича. Про самоубийство Сашеньки в Николаевске знали многие: в телевизионных «Новостях» проходили сюжеты о «трагической гибели вдовы бизнесмена». К счастью, Кабановича на кладбище не было, как не было и Бугровой.
Валера привычно развез нас по домам, и Лидия Михайловна громко зазывала его на поминки.
Петрушку я перевезла в родительскую квартиру — мне тягостно было жить в доме, где умерла Сашенька. Я собирала нехитрый скарбик малыша и одновременно с этим паковала Сашенькины наряды в большие пакеты с логотипом универсама «Николаевский» — нашла в кухне целую пачку.
Я не понимала маминого стремления поскорее рассортировать и раздать все вещи, что остались после Лапочкиных. По мне, пусть бы они лежали тихонечко в шкафу, никому они, видит Бог, не мешали. Лидия Михайловна предложила сдать эту квартиру знакомым, и я не была против. Главное, что мне надо было унести отсюда до воцарения новых хозяев, — это содержимое книг, составленных на верхние полки. Плотных, зернистых купюр насчиталось прилично — пятьдесят тысяч долларов. Я не думала, что узнаю однажды историю этих денег, зато не сомневалась, кому они будут принадлежать. Они Петрушкины, и точка. Конечно, я не стану вкладывать эти мятные бумаги с овальным, словно на могильный памятник, портретом в сомнительные финансовые пирамиды. Я не буду рисковать наследством сына.
Сын? Слово впервые пришло мне в голову тем днем, в квартире Лапочкиных — оно сладко кольнуло меня изнутри. Я не собиралась хитрить с мальчиком, и когда он вырастет, то обязательно узнает о Сашеньке и Алеше. И никогда не услышит про Кабановича: эта подробность непосильно тяжела.
Деньги я сложила в очередной пакет из универсама — сверток получился толстеньким, как юбилейный подарок. Тут мне пришло в голову забрать с собой любимую книгу Сашеньки: смугло-желтый томик сонетов стоял на обычном месте, словно ожидая знакомых рук. Я открыла книгу и на лету поймала конверт. Подписан «Ругаевой А.Е.».
Аглае Евгеньевне. Или Александре Евгеньевне? Из двух возможных адресатов в живых остался один, и я разорвала правый бочок конверта. Вновь Сашенькин почерк, в углу — дата: вечер накануне похорон Лапочкина.
Глашка!
Я знаю, что ты заберешь моего Шекспира, поэтому и оставляю в нем письмо. Жаль, что ты не смогла понять огромную радость, которую дает людям «Космея». Знай, я ухожу из этой гадкой жизни в другую и лучшую. Жаль всех вас оставлять в юдоли скорби: как противен ваш мир, как предсказуемо проходят мелкие и скучные жизни… Ты никогда не представляла себе свою старость и смерть? Свою, Глаша, а не чужую.
Есть две вещи, о которых я должна рассказать тебе, прежде чем попрощаться надолго. Отнесись к ним, пожалуйста, всерьез, без дурацких своих шуточек.
Первое.
Алеша в последние месяцы занялся не своими делами, он начал общаться с темными силами: поверь, я знаю, о чем говорю. Его новые партнеры затеяли чуть не религиозную революцию, деталей я не знаю. Даже если он рассказывал мне что-то, я не всегда могла его услышать. Я почти все время отдавала Орбите и не всегда присутствовала в физическом теле.
У Алеши были громадные долги. Его счета в Цюрихе и Люксембурге арестованы — на них можете не рассчитывать. Через полгода максимум ему пришлось бы скрываться от кредиторов. Он получил от новых партнеров большую сумму — и решил хранить ее дома, в книгах. Самые дурацкие книги, на верхних полках. Это все, что у нас есть, и я прошу тебя отдать эти деньги Марианне Степановне: обязательно сделай так, Глаша, это моя воля.