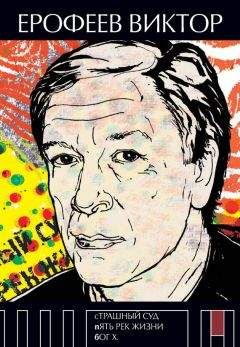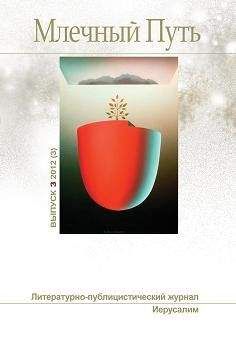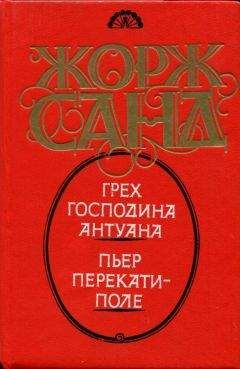— Я люблю безумие, — сказал я Лоре. — Лора, пожалуйста, не будьте нормальной женщиной. Сходите с ума и переходите ко мне.
Старикам раздали автоматы.
— Слушайте меня, — сказал я старым солдатам. — Постарайтесь убить как можно больше народу. Где ваш помощник? — спросил я капитана. — Не он ли наш главный враг?
— Он спрятался в машинном отделении, — сказал капитан.
Нынче по Рейну чуть дымят плавучие дома для престарелых. Это милая формула социального крематория. Старики жадно едят: их дни сочтены. Их жалко, конечно, но еще больше жалко себя. Эридан ты мой, Эридан!
— Лора, я превращу Рейн в Эридан, и мы поплывем по нему, как аргонавты, вдыхая ужасный смрад от революционного пожара жизни.
— Уже плывем, — сказала Лора Павловна.
Капитан-религия
— Если капитана нет, все позволено, — плоско пошутил я. Капитан рассмеялся.
— Если капитана нет, то какой же я Бог? — хитро сказал он, демонстрируя зеркальное знание русской классики.
Мы говорим с ним о старшем брате Ленина, о понятии «счастье» в советской литературе, о коммуналках, о понятии «литературный успех», о том, почему все женщины брили лобок до 1920 года, а затем, как по команде, перестали; мы говорим о incendium amoris, парадоксах деконструктивизма в их опосредствованной связи с буддизмом, о тибетской практике тумо.
— Да чего далеко ходить за примером, — говорит капитан, — мой помощник каждую зиму сидит на снегу голой жопой часами, причем температура в заднем проходе остается неизменной.
— Да, — задумчиво киваю я. — Возможности тела безграничны!
Мы говорим о понятии «пожар» в подмосковной дачной жизни, о моей американской дочери, не то родившейся из случайного фильма, не то породившей его сценарий; мы говорим и не может наговориться о белорусских партизанах и сортах сигарет, которые любят берлинские лесбиянки, о сенокосе, Горбачеве, правах человека на труд и на мастурбацию, о снисходительности.
— Почему вы, капитан, так снисходительны к людям?
— Привычка. А, знаете, что Лора Павловна делает по ночам? Одна, в пустой каюте, при свете ночника…
— Она обхватывает коленки руками и, подражая святой Терезе, отрывается от пола.
— Подсмотрели?
— Догадался.
— По-моему, вы встали на тропу мудрости, — удивляется капитан. — Вы сами отрываетесь от пола.
Мы говорим о голоде в Эфиопии, о том, почему американские мужчины в любви романтичнее американских женщин, о понятии «Америка», о свободе, Лас-Вегасе, Калифорнии, беспокойстве, любимых автомобилях.
— «Понтиак» с открытым верхом образца 1968 года, — говорю я.
— Cool, — замечает капитан.
Мы говорим о тех местах на Земле, что сильнееменя, о социальной ангажированности Габи, о плотоядных улыбках ее подруг, о пьянстве как чистоте жанра, о роли женщин в отрядах gerilla, о Дон-Жуане как лишнем человеке, о мелочах жизни.
— Я расскажу вам историю о Берлинской стене, — говорю я, рассеянно глядя на Рейн.
— Берлинской стены не было, — говорит капитан. — Все это хуйня.
— Что значит — хуйня? А как же овчарки, мины, подкопы, вышки, смертники, пулеметы?
— Галлюцинация целого поколения.
— Но я видел ее! Хотя… — тут я засомневался.
— Берлинская стена — не меньший фантом, чем Гомер, — говорит капитан.
Зовем в свидетели Габи.
— Габи, помнишь Берлинскую стену?
— Еще бы! — обрадовалась она. — Я сама ее — кайлом! А после с девчонками пили яичный ликер на обломках!
— Ну, иди! Что с тебя взять? — отмахивается капитан.
Мы выходим с капитаном в звездную ночь, ищем на небе Млечный Путь, нам хочется, как детям, прильнуть к нему, но попадается все какая-то мелочь: созвездие, очень похожее на теннисную ракетку, Южный Крест. Сквозь розовомохнатые цветы эвкалиптов виден Марс, лампой стекающий в океан.
— Не туда заплыли, — говорит капитан. — Пошли спать. Утро вечера мудренее.
Наутро мы говорим о немецких картофельных салатах, о польском грибном супе в Сочельник, о цветах под названием райские птицы, о латентной любви французских авангардистских художников к полиции, о понятии «говно» в немецкой культуре.
— А как поживает ваш салат культур? — смеется капитан.
Внезапно мы оба видим огромную ярко-зеленую лягушку в черную крапинку. Она сидит на болоте, обвитом настурцией, и не квакает.
— Раз с делегацией мелких советских писателей я прибыл в Восточный Берлин, — начинаю я свою одиссею.
— Советские писатели! — восклицает капитан. — Большие люди! Интересное явление!
Он любит все необыкновенное. Мы говорим с ним об утренней эрекции.
— Поэзия, — говорит капитан. — Не правда ли, утренняя эрекция — это то маленькое чудо, на которое способен всякий настоящий мужчина?
— Главное чувство Европы — серьезность, — говорю я. — Тихие толпы людей на прогулке в Париже, Лондоне, Милане, Барселоне охвачены геометрически четкими параметрами самоуважения.
— Я зримо представил себе сейчас эти города, — взволнованно говорит капитан. — Как же много в мире всего понастроено!
— Русский бьется всю жизнь, чтобы начать самого себя уважать. Но куда там, если нет у него геометрии!
— Да-да, — смеется капитан, — несерьезный народ. А тут, в Европе, даже смех — серьезныйдовесок к местной серьезности.
— А вы за кого? — вкрадчиво спрашиваю я.
— Я-то? — смущается капитан. — Да, вы знаете, за судоходство.
Разговор неожиданно прерывается, слышатся выстрелы, старики расстреливают шпионов.
— Старики — любимые дети в моем саду, — говорит капитан. — Я особенно проработал понятие «старость». Ну, чего тебе? — говорит он запыхавшемуся помощнику.
— Пора ужинать, — говорит помощник.
— Вечно ты, парень, некстати, — добродушно ворчит капитан.
Лорелея в штанах
На Рейне я, наконец, понял, кто я на самом деле. Я — Лорелея в штанах. Мужской вариант соблазнительницы. Правда, я не умею петь. Вернее, пою я чудовищно. Но это не имеет никакого значения.
Социально близкие старухи из дешевых кают пришли ко мне с жалобой:
— Кончилась вода.
— Пейте шампанское!
Вечером я видел, как они танцевали канкан.
— Старперы! — выступил я по местному радио. — Не верьте детям и внукам. Они хотят вашей смерти. Устройте детский погром!
Вечером я наблюдал, как они надругались над какой-то приятной студенткой.
— Не трогайте меня! — кричала крошка. — Я — француженка!
— Это довод! — в ответ смеялись кровожадные старики.
Рейн может снабдить водой тридцать миллионов человек. Они пьют ее — становятся серьезными. Из серьезной воды я вылавливаю русалку и помещаю к себе в каюту. У нее прыщавое лицо и ранняя седина. Я знаю: она дочь Рейна. У нее папа — слесарь и бывший нацист, который не любит ее. Она вегетарианка. Разрывается на части: эксгибиционистка, но при этом социальночудовищно стыдлива.
Немка выступила с проектом тотальной ебли. Она боится спросить наших соседей за столом (они не замечают, что у нее хвост), кто они, из какого города. Она уверена, что он — владелец турагентства в Вене (судя по акценту). Оказывается (я спросил): адвокат из Кельна.
Мы говорим этой «венской» паре (жена адвоката меняет наряды три раза в день) «здрасте», «приятного аппетита» и «до свидания». Это единственное теплоходное знакомство.
— Вы не хотите прийти к нам в каюту? — спросил я адвоката. — Вы не хотите после десерта заняться холодным развратом?
Адвокат жрал торт с клубникой.
— Я люблю наблюдать за птицами, — грустно сказал адвокат.
— А я люблю Париж, — сказал я. — Париж для меня родной город. Три года подряд я собирал там в детстве коллекцию почтовых марок. Когда мы победим, я сделаю центром мира Москву, а Париж уничтожу к черту!
— Птицы — это красиво, — сказала немка. — А еще я люблю детей. У вас сколько детей?
— Пять, — сказал адвокат.
— Ну, это слишком много, — сказал я. — Давайте трех зарежем и съедим.
— Мы должны подумать, — сказала жена адвоката.
Это религиозный тип женщины. Постная тварь, не умею щая гулять по буфету. Я не удивлюсь, если узнаю, что у нее традиционное католическое образование.
Дочь слесаря хочет обладать мною целиком, ни с кем не делясь. Она меня ревнует. Она мне даже не дает звонить по телефону в Москву.
— А почему вы хотите уничтожить Париж? — спросила жена адвоката.
— Не знаю. Захотелось.
Вошла Лора Павловна, наш комиссар.
— Над теплоходом кружит полицейский вертолет, — весело сообщила она.
— Я хочу уничтожить Париж как колыбель философского безбожия, — вспомнил я. — Вы подняли на мачте красный флаг?