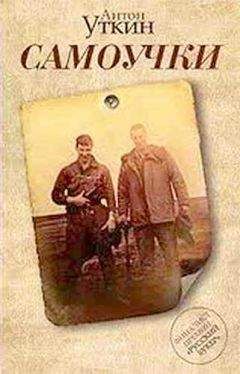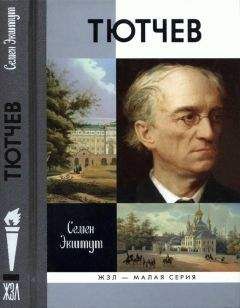Я ответил, что костюма у меня нет, но, чтобы придать себе более солидный вид, я готов переодеться в строгие брюки. Павел придирчиво осмотрел этот ансамбль: низ ему потрафил, а вот моя кофточка никак не вязалась с его представлениями о гардеробах порядочных людей. Надеясь на чудо, он сунул печальное лицо в душную темень одежного шкафа, вместо выходных костюмов заваленного книгами и съежившимися от старости апельсиновыми корками.
— Нехорошо опаздывать, — изрек он, когда застоявшийся автомобиль выскочил на Садовое кольцо.
Минут через пять Чапа затормозил у первого же магазина, где продавали одежду. Паша ворвался внутрь, напялил на меня пиджак, подтащил к зеркалу, повертел, помычал, оторвал этикетки, схватил с вешалки первый попавшийся галстук, с полки прихватил белую сорочку, расплатился и под шальные взгляды весь день скучавших продавцов выскочил на улицу. Свой туалет я завершал в машине. Через пять минут я экипировался надлежащим образом и был готов предстать пред очи самых строгих ценителей классического костюма.
Впрочем, к началу мы все равно не поспели. Прежде всего я увидел каких — то людей, стоящих в темноте у входа в подвальчик, своим неровным косяком напоминавший богатырский зев русской печки. Каждый держал в руках по одноразовому пластмассовому стаканчику. На свету, застывшем в дверном проеме, клубился пар. Мы спустились вниз по выщербленным и неровным ступеням. Коридорчик, в котором вежливо потягивало “травкой”, геометрически вильнул, и нам представилась ярко освещенная комната без окон, метров пятидесяти площадью. На дальней от входа стене, в лучах боковой подсветки, висел сам предмет — кусок фанеры, на котором в четыре кольца клейкой ленты была продета свежеспиленная ветка ясеня. Рядом в опрятной рамке находилось отпечатанное лазерным принтером moralitбe.
Помещение, полное серым дымом сигарет, было еще полно мужчинами и женщинами, в основном молодыми, и все они тоже отхлебывали из белых пластиковых стаканчиков рубиновую жидкость, а жидкость после каждого глотка кровавыми каплями задерживалась на ребристых стенках, в канавках колец. Мы выделялись в толпе своими пиджаками и галстуками, потому что, кроме нас, никакой строгости ни в ком заметно не было. Напротив, все намекало на то, что мы попали на выставку, так сказать, костюмированную.
Бал здесь правила мода разогнанного Тишинского рынка, когда вещи настолько стилизованы, что никак не поймешь, то ли это ужасное старье, то ли плод годичных трудов и гордость какого — нибудь парижского ателье. Мужчины щеголяли платками и ушными серьгами, а девушки с изможденными лицами носили с трогательным изяществом черные бушлаты, вызывающие в памяти казенные наряды революционных матросов. И девушки и юноши дружно топтали пол массивными альпинистскими ботинками, наличие которых как будто намекало на то, что их обладатели время от времени вырываются из чахоточного града и покоряют горные вершины, хотя это все — таки было и не так.
Вежливо и даже по — приятельски здороваясь с некоторыми из них, Павел протиснулся прямо к произведению. Подойдя вплотную, он долго стоял и смотрел на загубленную ветку. Я читал пояснение:
“МОЙ ПУТЬ — ПРОНЗАТЬ ОДНИМ.
А что скажет Ю?”
— Ну как тебе? — наконец спросил он озабоченно.
В ответ я сделал головой, руками и даже всем корпусом некий неопределенный жест, который должен был изобразить степень моего восхищения.
Между тем комната наполнялась новыми и новыми поклонниками неизвестного мастера. Входящие мельком взглядывали на композицию, живо напоминавшую украшение только что отстроенного лютеранского храма, и после бурных приветствий подключались к тесному разговору. Впрочем, это храм и был.
Только один молодой человек, едва появившись, тут же отправился изучать экспозицию, внимательно посмотрел на стену, оглянулся в поисках поддержки с чуть виноватой улыбкой человека, не знающего, как тут быть: отнестись ко всему как к шутке, или здесь было бы уместней морщить лоб и наслаждаться долго, то отходя, то приближаясь, постоянно меняя угол зрения. Если не считать меня, он был единственный зритель. Я ответил ему загадочной улыбкой, и тогда он тоже улыбнулся открыто и облегченно, охотно признавая себя дураком. Потом, я видел, он отыскал каких — то своих знакомых и весело с ними болтал, однако то и дело воровато находил глазами экспонат и несколько испуганно на него поглядывал.
К нам протиснулся высокий человек, с большой лысиной и седеющей бородой, облаченный в видавшие виды джинсы и какую — то распашонку.
— А это мой друг, подающий надежды… — попытался представить меня Разуваев.
— Дожить до ста, — поспешно договорил я, ибо начало этой затертой до дыр рекомендации сулило несусветную чушь. Наверное, он слышал ее в каком — нибудь фильме.
— Ну, эти надежды мы все когда — то подавали, — сказал хозяин бороды и зашелся тяжелым кашлем. — Юра, — добавил он, потоптался, повел бородой по пустым стенам, как бы желая спросить отзывы, но стесняясь.
— В этом искусстве много сложной философии, — уклончиво молвил я.
Он посмотрел на меня как архиерей на старообрядца — пристально и настороженно, стараясь взвесить меру иронии, но улыбнулся снисходительной улыбкой светского человека.
Паша, наверное, переживал тяжкие минуты. Было хорошо видно, что ему за меня стыдно. Юра по — прежнему натянуто улыбался.
— Хотите вина? — спохватился он.
В ту же минуту в наших руках оказались пластмассовые стаканчики.
— Молдавское, — поспешно сообщил Юра, прочитав вопрос в легком движении лицевых мускулов. — “Кодру”.
Очень скоро Юра нас оставил. Мы торчали посреди зала в своих пиджаках, словно и сами превратились в экспонаты этой странной выставки — в экспонаты, до которых никому нет дела, напоминающие к тому же сотрудников известных органов на детском празднике. То и дело возбужденный гул взрывался всполохами хохота, а квадратные метры задыхались от сомнительных благовоний, и пустота просачивалась сквозь голые стены, словно кровь, пот и слезы красивших их маляров.
Однако искусство искусством, а жизнь ковыляла своим чередом. Я хочу сказать, что за первым стаканчиком последовал второй, а там и третий, и следующий по счету. Точнее, стаканчик — то был один — все тот же пластмассовый. Каким — то образом я оказался вовлеченным в разговоры с людьми, с первого раза показавшимися мне очень знающими.
— Граббе зря написал эту статью, — говорили мне. — Знаете Граббе? Нельзя писать о том, чего не знаешь! Нельзя.
Граббе я не знал, статьи его не читал, однако постарался ответить таким образом, чтобы в случае чего не сойти за обманщика.
Мой неизвестный собеседник распалился не на шутку и потрясал номером “Газеты”. Я подливал горючего в его праведное негодование и вместе с ним безжалостно судил проступок неведомого мне Граббе.
В эти минуты у входа образовалось скопление людей — как будто две волны встретились и столкнулись, рассыпая сотни брызг.
— О — па, — обрадованно воскликнул толстяк. — Минутку. — Он протиснулся к этому скоплению.
Я посмотрел туда, куда он указал, и увидел человека лет сорока в грубом сером свитере, висевшем на острых плечах, как поникший парус. На локтях свитера были нашиты кожаные кружки. Цвет лица у него был нездоровый, и глаза окружали темные овалы. Глаза были совершенно неподвижны, их взгляд выражал какую — то отрешенную усталость, — пока он разговаривал с толстяком, они смотрели куда — то в сторону и жили жизнью, самостоятельной от всего остального.
— Кто это? — спросил я, когда толстяк снова оказался возле.
— Это гений. — В его взгляде появилось умиление, которое так хорошо дается полным людям.
В этот момент гений прошел совсем рядом, и я хорошо видел его остановившиеся глаза.
— Придуманное искусство — это уже не искусство, — заметил мой новый знакомый.
Очередная порция рубинового вина смягчила мою нетерпимость. С этой минуты я принялся разглядывать экспозицию несколько более благосклонно, но еще позволял себе рассуждать:
— Как на это посмотреть. Это ведь тоже придумать надо: ветку спилить, скотч купить. Ю — то что об этом говорит? — сказал я, робко поглядывая на гения, безжизненную руку которого вот уже минуту безжалостно трясла и мяла какая — то пожилая женщина с пучком седых волос на затылке и кошельком из джинсовой ткани, который покоился у нее на груди.
Несколько мгновений толстяк осмысливал мои слова, болтая в стаканчике остаток вина, потом спросил:
— Вы кто?
— В каком смысле? Пока никто. Студент вообще — то.
Толстяк покачал головой с таким видом, как будто знал ответ наперед. Он стряхнул со своей лоскутной жилетки черные капли пролитого вина и заговорил уже спокойнее:
— Губит людей социология, губит.