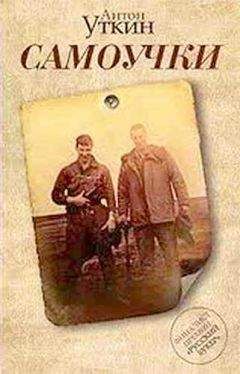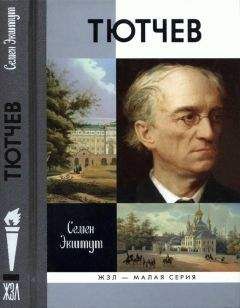— Губит людей социология, губит.
В этот момент гений прошел еще ближе, и я хорошо видел, с каким мучением ему давался каждый шаг. Очевидно, он слышал мои слова, потому что повернулся и посмотрел на меня своими студеными глазами. Они были настолько неподвижны, что нельзя было разобрать, какое выражение скрывается в этом взгляде.
— А вы что же, в самом деле смысла ищете? — спросил толстяк миролюбиво.
— Боюсь, что так, — ответил я.
— Это все социология, — снова сказал он. — Подумать только.
Мне показалось, что он вот — вот заплачет — так проникновенно это прозвучало, и я ощутил, что неизлечимо болен социологией.
— Вот, кстати, и Граббе…
Голова моя сокрушенно закачалась, словно давая понять, что я очень разделяю его недоверие относительно человеческого рода, по крайней мере относительно некоторых его представителей. Я еще пытался защитить принципы, но при виде всеобщего воодушевления махнул рукой и, потягивая искрометное, соглашался решительно со всем. Пустота стен казалась мне уже исполненной вдохновенного, первозданного смысла. “Надо же, — думал я, — ничего лишнего — святая простота”, а ветку на куске картона я соединил с удивительной волей мужественного творца. Мне показалось даже, что на мгновенье и я усмотрел в ней смысл — тоже первозданный. Она казалась мне образом, символом, знаком. Мой собеседник почувствовал слабину и глухо зарычал:
— Вербальная культура умирает, визуальная наступает.
— А то нет, — милостиво согласился я.
— Никто больше ничего не читает. Буква шелухой становится.
— Еще бы, — отвечал я с воодушевлением. — В самый корень глядите.
Вокруг бурлило море общения. В гомоне голосов я различал свой собственный:
— Сюжет умер, фабула сгнила — все передохло. Впрочем, туда и дорога.
Белые стены еще оставались белыми и блестели масляной краской, сияние их ослепляло, но потом стены потекли и накренились. Потом пропал Паша, и я понял, что катастрофа близка. Дальше пошло уже не кино, а настоящий фотофильм. Живые картины сменяли друг друга в последовательности непризнанного искусства…
Помню еще высоченные потолки абсолютно незнакомой квартиры, куда мой пьяный взгляд просто не дотягивался, в желто — зеленых потеках и хлопьях вздувшейся и отставшей побелки. Я был представлен каким — то людям, восседавшим, как судилище, за огромным кухонным непокрытым столом, — впрочем, готов присягнуть, что никого не интересовало, кто я таков. У стены размещался дубовый резной буфет — мне казалось, что он вот — вот свалится мне на голову, когда кто — нибудь, выбираясь из — за стола, случайно его задевал и он, громыхая скрытой за дверцами посудой, трепетал и трясся, как анатомический скелет.
Напротив меня восседали невозмутимые и неразговорчивые молодые люди и время от времени прикладывались к стаканам, совершая сдержанные, изящные глотки. Если на свете еще есть те англичане, которых так любили уничижать в прошлом столетии все остальные, то мне казалось — это именно они. Их невозмутимость и брезгливое достоинство обнаруживали способность укрощать безумства общения. Впрочем, они назвались драматургами, а неуемная хохотушка, руководившая весельем, оказалась ведущей какой — то радиопрограммы.
— Где мы? — осведомлялся я через каждые три минуты.
— Мы на Рождественском бульваре, — терпеливо поясняла какая — то незнакомка, — у меня в гостях.
Какие — то люди приходили и уходили, был еще какой — то ребенок, мелькала женщина в халате — совершенно из другой оперы, один раз ухнула пробка из — под шампанского, но вот пил ли я его, этого я — как говорили много лет назад уничижители англичан — решительно не умею сказать.
— Где Паша? — мусолил я свой неразрешимый вопрос.
Драматурги смотрели на меня укоризненно.
— Какой еще Паша? — удивлялась радиожурналистка и, не глядя на стаканы, добавляла в них бурой жидкости.
— Надо же! — восклицал я, прихлебывая. — А мне всегда казалось, что я ненавижу виски!
Радиожурналистка хохотала и плескала на стол неизъяснимо отрицательный напиток. Драматурги все время молчали и только пускали дым. Потом они куда — то ушли…
Мы с радиожурналисткой сидели на мокрой скамье, рядом стояли пресловутые пластиковые стаканчики и все время падали, до тех пор, пока коктейль из водки, дождевой воды и прелых листьев не придавил их наконец к скользкому дереву. Она почему — то плакала и беспрестанно твердила: “Бунюэль — стерильность кадра” (знаки препинания здесь, конечно, условность). А я говорил: “Дух изгнанья” — и пытался то ли высказать какую — то застарелую обиду, уже и не помню на кого, то ли сделать из нее союзницу в каком — то жестоком и принципиальном споре. И мне казалось, что, наверно, это очень романтично и совсем не плохо — быть Демоном и парить над землей, презрительно поплевывая вниз. Напоследок небесные хляби разверзлись и окропили нас материнским сочувствием природы. Так плакала осень, и мы плакали вместе с ней.
Очнулся я дома.
Утром, если четыре часа пополудни можно считать утром, я дал себе три клятвы: первая — никогда не пить никакой жидкости крепче кефира, вторая — прекратить эти дурацкие уроки, но выполнил только последнюю, а именно: к вечеру привел себя в порядок и крепко стоял на ногах. Моя одежда оставалась у Павла, и ее нужно было выручать, ибо я совсем не привык к представительским костюмам. К тому же один из них — именно тот, который я познал в эту волшебную ночь, — нуждался в серьезной чистке. Схватив свою голову в руки и следя за тем, чтобы она не раскололась, как переспелый арбуз, я побрел в контору, по три раза останавливаясь в каждой подворотне. В конторе было, как всегда, пусто, только Алла сидела за своим столом и, глядя в маленькое зеркальце, подкрашивала губы.
“Чего они все красятся?” — злобно подумал я, будто мне было до этого дело.
Алла предостерегающе кашлянула, энергично потерла губу о губу, спрятала зеркальце и сказала:
— Он не один.
Я отпрыгнул от двери как тактичный кузнечик.
— Да нет, — строго сказала она. — Там режиссер. Денег просит на фильм.
— На какой еще фильм?
— Ну, фильм он хочет снять, кино. На съемки.
Я распахнул дверь. Павел важно сидел в кресле, словно первый секретарь горкома средней руки, и внимательно слушал длинноволосого молодого человека, бродившего по комнате и потрясавшего папкой из черного дерматина, откуда загнутым углом, как манишка из смокинга, выглядывала девственно — белая бумага.
— …Виктор дотрагивается до нее… — Режиссер оглянулся на шум и замолчал.
— Виктор ее трогает… — напомнил Павел, весело на меня взглядывая.
— Не трогает, а дотрагивается до нее, — с плохо скрытым неудовольствием уточнил кинематографист. — Дальше…
— А зачем он ее убивает? — перебил вдруг Павел. — Можно же, наверное, как — нибудь по — другому решить вопрос.
Режиссер опешил и несколько мгновений не произносил ни звука.
— Но ведь он — киллер, профессиональный убийца, — невнятно молвил он. — Это же сценарий… — начал он, однако тут же сник.
Я слушал этот диалог, мои глаза метались между ними, потом в ожидании уставились на режиссера, а режиссер смотрел на картины, изображающие нечто, с тоской и сочувствием.
— Почему бы им не полюбить друг друга? — спросил Павел и ткнул пальцем в страницу сценария.
— И пожениться, — с тихим презрением добавил режиссер.
— А что? — невозмутимо воскликнул Павел. — Жениться — то надо. Никуда не денешься. — Сказано это было с трогательным смирением перед глупыми людскими обычаями.
Паша обладал драгоценным свойством пленять сердца нестяжательной внешностью и простотой — он не боялся казаться смешным. Это подкупает людей, как будто давая им чувство превосходства, а главное, успокаивает, если они верят неподдельности таких проявлений, и люди мягчают в ответ.
— Что значит — надо? Не надо, — обреченно упрямствовал режиссер.
— Почему это?
— Такова жизнь, — коротко, но емко, как сам кинематограф, ответил тот.
— Неужели у жизни не бывает хороших концов? — вздохнул Павел.
— Это не жизнь, — хмуро отбивался режиссер, — это искусство.
— Да вы не сердитесь, — сказал Павел значительно мягче, — я в этом ничего не понимаю.
— Тут чувствовать надо, — тихо ответил режиссер.
— И не чувствую, — радостно подхватил Павел. — Вон у меня специальный человек, — он повел головой в мою сторону, — чтобы все пояснять. Человек, что ты скажешь?
Режиссер недоверчиво на меня посмотрел, уверенный, что перед ним ломают комедию.
Я, как ни был возмущен таким поворотом, постарался придать своей физиономии брезгливую значительность критика и сноба и не знал, как бы поправдоподобней отразить на ней неизбывную думу об искусстве. Более того, я вспомнил, что, согласно Бодлеру, человеческое лицо призвано отражать звезды, но звезд под рукой не было, и я как смог отразил прохладный свет неоновой лампы.