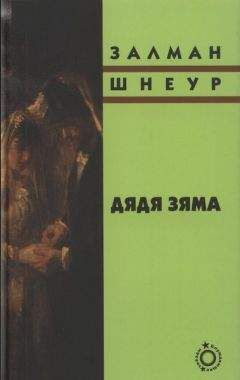Поразмыслив, в следующий раз Зяма для чтения вслух недельного раздела берет себе в помощники своего единственного сына Ичейже, двенадцати лет от роду. Ничего-ничего, Ичейже поможет папе тащить телегу недельной главы: давай, давай, парень!..
Но Ичейжеле — капризный, избалованный парнишка. В пятницу после хедера он бежит к своим голубям; он одержим голубями так же, как его папа — исполнением заповеди, которую сам для себя нашел. Ичейже возбуждает воркование голубей, их золотисто-зеленые шейки, трепет крыльев на взлете, звучащий, как поцелуи. И вдруг его тащат читать с правильными ударениями стих, который он как раз сегодня уже пропел в хедере с ребе. И кто? Собственный папа. Ичейже упирается и отбрыкивается, как жеребенок.
— Давай, сынок, — просит Зяма, — повтори еще раз. Тебе ведь от этого хуже не будет, скажи-ка: «Эле толдейс Нейех»[53].
Ичейжеле оттарабанивает «Эле толдейс Нейех» без всякого выражения. А когда дело доходит до второго «Нейеха», до «Нейеха» с «четвертями», когда это имя нужно выводить с руладами, Ичейжеле склоняет голову, как готовый бодаться козленок.
Просит его Зяма:
— Скажи-ка, сыночек: Ней-ей-ей-ех!
Но Ичейжеле гундосит кратко и сухо, лишь бы отделаться:
— Ней… ех.
Зяму начинают сердить попранная честь Ноя и укороченные «четверти», и Зяма уже несколько тверже наседает на своего единственного сына:
— Ну, сокровище ты мое, скажи-ка мне… Немедленно скажи: Ней-ей-ей-ех!
— Глянь, мам, глянь!.. — капризничает Ичейжеле. — Ней-ех!
Наконец, Зяма, озлившись, прерывает его, говоря с тем напевом, с которым произносят библейский стих, и в рифму:
— Ичейже, я тебе сейчас вышибу мей-ей-ей-ех!
Единственный сын опускает упрямую голову и хнычет как маленький:
— Мама, глянь, глянь, мама!
Из кухни выбегает тетя Михля, заботливая мать с сечкой в руке, и спасает «ребенка» от папиных рук и от библейского стиха:
— Оставь мальчика в покое, пусть себе играет, пока играется. Он ведь уже сказал тебе этот стих, сказал уже…
Видит Зяма, что ему ничего хорошего не светит. Потому что, когда Михля начинает защищать своего единственного сына, она жалит, как пчела, и шипит, как рассерженная кошка. Она, пожалуй, еще скажет, что ему, Зяме, нужен белфер[54]… Лучше уж он превратит все это в шутку и споет Михле вместе с ее «удачным» сыночком с той же интонацией:
— Михля, от твоего сокровища я совсем без кей-ей-ей-ех!
Зяма остается с глазу на глаз с Пятикнижием и должен теперь один читать вслух недельный раздел. Он произносит стих про себя, придушенным голосом. Но в таком виде исполнение заповеди лишено всякого вкуса. Тяжело дается простаку грядущий мир. Но ведь на полпути уже не остановишься:
— Ай-ай-ай, ватишохейс оорец лифней оэлойгим ватимолей…[55]
Чтобы немного утешиться, Зяма украдкой заглядывает после каждого стиха в перевод[56] и замечает с радостью, что там все, не сглазить бы, понятно. Слова лепятся одно к другому, составляются в строки, превращаются в картины. Знакомые, но полузабытые истории снова становятся ясными и понятными. Кажется, они наполняются кровью, оживают. Вот Ной забирается в сундук[57] со своими домочадцами. Плывет в водах потопа… А вот он посылает голубей посмотреть, не спала ли вода. А вот ковчег садится на мель на горе Арарат, и Ной с семейством вылезают из ковчега на слякотный, непросохший кусочек суши, а за ним — изголодавшиеся и отощавшие — львы, скорпионы, кошки и всякое прочее зверье. Прямо жалко смотреть на этих коз и коров, на их ввалившиеся бока и исхудалые ноги… Но первым делом праведник Ной берет и приносит в жертву Богу несколько пар кошерного скота. Он даже не дает животным немного попастись перед такой прекрасной смертью. Всевышний важнее. А ведь за несколько месяцев потопа Ной поди и сам изголодался. Дымится ради Всевышнего первый жертвенник на горе Арарат. Жарятся на огне тощие куски мяса.
— И Бог, — переводит Зяма, — обонял благоухание. И Бог сказал: не буду больше проклинать землю за людские прегрешения[58].
Согретые рокочущей интонацией напева, слова и картины приобретают более глубокий смысл. Как поется, так и толкуется. Смесь добродушия, простоты, солдатской прямоты и купеческого хитроумия обостряют Зямино восприятие историй, укрытых пеленой святости, лоснящихся, как будто их медом намазали, глянцевых, как корка халы, смазанная желтком. Он морщит свой упрямый лоб под кудлатой шевелюрой, прислушиваясь к новым, странным отзвукам. Его острые, ищущие глаза видят какие-то новые оттенки в тех старых картинах, которые когда-то ребе, воздействуя то оплеухами, то Раши, то переводом, то плеткой, запечатлел в Зяминой памяти. Однажды, читая вслух недельный раздел, как положено, с тропами и с переводом, Зяма не смог сдержаться. Веселый огонек заплясал в его неподатливом перетрудившемся мозгу.
— Поди-ка сюда, Михля, — позвал он, потирая руки, как человек, который только что совершил выгодную сделку. — А, ты здесь? Ты только послушай: Веянкев иш там йойшев оголим…[59] Праотец Иаков был простаком, живущим в шатрах… Простаком! Так и сказано: простаком! Лию с больными глазами — он берет! Рахиль — красавицу — он берет. Зелфа-служанка тоже ничего — он берет! Валла — еще одна девка — он берет! Ничего себе баб-то набрал! А сказано: простак.
— Зяма… — таращит Михля испуганные глаза.
— Не волнуйся! — Зяма делает вид, будто вообще не понимает, что имеет в виду Михля. — Что «Зяма», что? Слушай дальше! Акудим — пестрых овец — он берет. Некудим — с крапинами — он берет, ветлуим — пятнистых — он берет,[60] не сглазить бы! Он берет и берет, а все «простак, живущий в шатрах». Тоже мне простак из Агоды[61].
— Зяма! — уже в голос кричит Михля.
— Не ори! — совершенно спокойно отвечает ей Зяма и корчит шутливую гримасу. — Чего ты орешь, чего? Я еще не закончил. Послушай-ка чуток дальше: Вайги ли…[62] — шифхес — служанок — он берет; эвдим — рабов — он берет; верблюдов — он берет; ослов — он берет… Лаван, его дядя, у которого он всё отнимает, по словам Иакова, — обманщик, вор, гой; а Янкеле, этот хапуга, — «простак, живущий в шатрах»… Мало того, он еще и удрал на верблюдах с чадами и домочадцами. А Рохеле, эта его эйшес хайл[63], тырит отцовских языческих богов[64], то есть идолов, которые Лавану достались от родителей. Что с того, что реб Янкев жил в шатрах, если он знал свое дело лучше, чем Лаван Арамеянин? Неплохо для простака. Хорош бы я был с моими хорьками, если бы у меня такой простак ходил в компаньонах?
Михля выслушивает оглушительную Зямину проповедь и обращается, как жена Лота, в соляной столб… Наконец она едва выговаривает пересохшими губами:
— Может быть, ты уже закроешь рот? Разве может отец семейства так насмехаться над недельным разделом и праотцем Иаковом?
— Где это я насмехаюсь? Вот ведь глупая баба! — удивляется Зяма.
Он как будто не понимает, что его жена имеет в виду. И вдруг улыбается, добродушно и хитро:
— Бог с тобой, Михля! Наоборот. Я совсем не это имел в виду. Ловкач он был — этот отец наш Иаков. Умный человек, купец из купцов. Почему же из него хотят сделать простака, дурня? Простак из Агоды, дубина стоеросовая, говорю тебе, выглядит иначе. Совсем иначе…
И Зяма с новой силой начинает бормотать себе под нос напев недельного раздела. Он все-таки побаивается задевать праотцев и их честь. Но радость открытия, которое он сделал в Торе, сильнее. Эта радость проливает ясный свет на то, что ему дальше делать с нынешним недельным разделом и со всеми последующими. Только делиться своими открытиями с Михлей он теперь боится. Зачем ему так огорчать свою бабу? И ведь не всякий раз найдешь правильные слова. Выходит неуклюже, грубовато. Совсем не то хотел он сказать, но так само сказалось. Лучше он будет помалкивать, сам себе толковать стихи Писания и думать про себя так, как ему думается.
Но перед Пуримом, бормоча себе под нос чудный напев Мегилы[65] и посматривая в перевод, Зяма не смог сдержаться. Разозлившись на Артаксеркса, он позвал Михлю с кухни, чтобы она его выслушала:
— Нет, ты только послушай, Михля! Ад-хаци гамалхус виносн…[66] До полцарства будет тебе дано. Что ты скажешь об этом пьянчуге, об этом Ахашвейрушке? Так и швыряется полцарствами. Из грязи да в князи![67] Уже дарит полцарства! Не успела Есфирь, эта новенькая, нос показать при дворе, — на тебе полцарства! Как это так? А что ему жалеть-то? У него ведь как-никак сто двадцать семь земель. Разве мало у него останется, у пропойцы?.. А может быть… может быть, он дело говорит? Кажется, вот ведь пьянчуга! А дело говорит…