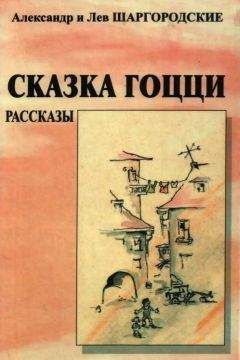Он улыбнулся:
— Если там и пишут, мой друг, то аккуратно, цветным фломастером и без ошибок. В одном университетском туалете, старина, — продолжил Гоша и печально посмотрел на меня, — где благоухало фиалками и пел Морис Шевалье, на стене было каллиграфически выведено…
— Ауф ди берге виль их штайген? — почему-то спросил я.
— Нет, — ответил он, — на белоснежной стене было аккуратно выведено: «Жиды, жаль, что вас не уничтожил Гитлер».
— По-русски? — вдруг брякнул я.
— Дружище, — сказал Гоша, — благодаря туалетам я изучил почти все языки мира. Эта надпись была по-французски с переводом на английский. Или наоборот… Да, — вздохнул он, — что ни говори, а о культуре страны судят по ее туалетам…
Он поднялся:
— Я ненадолго… Пойду, взгляну, что интересного в туалете кафе «Ля Клеманс»…
Восемнадцать месяцев своей жизни Шепшелович провел под кроватью.
— Это были самые плодовитые годы, — рассказывал он, — под кроватью я выучил древнееврейский, изучил Тору и впервые почувствовал, насколько люди глупы. Лучше встретить медведицу, лишенную детей, скажу я вам, чем глупого с его глупостью. Я лежал под кроватями, на которых находились партийные бонзы, ученые, бюджетники, попы, атеисты, безграмотные и поэты — и все они пороли чушь и мешали мне спать.
После восемнадцати месяцев Шепшелович, не задумываясь, только по скрипу, мог сказать, какого кровать века, где сделана и кто на ней лежит.
— Кровать под полковником, — объяснял он, — поет совершенно иначе, чем под каким-нибудь счетоводом, хотя болтают они об одном и том же.
— Почему вы жили под кроватью? — часто спрашивали Шепшеловича.
— Потому что «на» кровати меня бы арестовали, — честно отвечал он.
— Позвольте узнать — за что?
— За пожелание, — скромно говорил Шепшелович.
— Разве за это сажают?!
Шепшелович принимал позу мыслителя.
— Смотря кого вы поздравляете и каково пожелание, — по лицу его прогуливалась дьявольская улыбка. — Я поздравил товарища Станина.
После этого Шепшеловича обычно спрашивали:
— И что же вы ему пожелали?
— Чтоб он сгорел, — скромно отвечал Шепшелович. — Вы понимаете, в те годы после такого пожелания, можно было жить только под кроватью. И я лег. Я лежал под кроватями Душанбе и Махачкалы, Бухары и Красноярска, Улан-Удэ и Сочи. Не будем останавливаться под каждой кроватью — они все похожи. Если вас интересует, я вам расскажу про три.
Неизвестно почему, но Шепшелович всегда рассказывал о кроватях трех столиц — Риги, Тбилиси и Киева.
— В Риге, — рассказывал он, — я лежал под железной, ржавой и скрипучей кроватью, почти военной, мне даже казалось, что она пела «вот солдаты идут». Моментами мне казалось, что она обрушится на меня. Особенно я этого боялся, когда на ней находились представители следственных органов и местной прокуратуры — они могли сразу начать допрос.
Кровать стояла в маленькой каморке на Рижском взморье, принадлежавшей давнему другу Шепшеловича Изьке Зовше. Шепшелович прибыл туда ночной электричкой и, оттолкнув Зовшу, открывшего дверь, полез на карачках под кровать.
— Ты куда? — спросил Зовша.
— Туда! — ответил Шепшелович.
— Подожди, у меня там чемоданы, бутылка «Рислинга». Чего тебе там делать?
— Жить! — твердо ответил Шепшелович. — Хочу жить!
Зовша ничего не понимал.
— И долго? — на всякий случай спросил он. — Сколько там ты собираешься жить?
— Не знаю, — прямо ответил Шепшелович, — пока он не сдохнет!
— Кто? — Зовша был заинтригован.
— Усатый, — ответил Шепшелович, — горец.
Зовша все понял.
— Он бессмертный, — предупредил он Шепшеловича.
— Тогда останусь здесь навсегда, — ответил тот, — я надеюсь, ты сможешь приютить друга под кроватью?
— Что ты уже натворил?
— Ничего. Я поздравил нашего любимого вождя и учителя с юбилеем.
И тут, как всегда, возник недоуменный вопрос.
— Разве за это сажают?!..
Зовша был прав. Почти два года вся страна — академики и доярки институты и молочные фермы, акыны и просто поэты — поздравляли генералиссимуса с семидесятилетием. Все газеты были заполнены поздравлениями в стихах и прозе, и только пожелание товарища Шепшеловича опубликовано не было.
— Вместо этого они объявили розыск, — сказал Шепшелович, — и я прибыл к тебе.
— Зачем ты так поздравил нашего отца и учителя? — поинтересовался Зовша.
— Облегчил душу, — сознался Шепшелович, — написал то, что думаю.
— Все так думают, — заметил Зовша, — но никто не пишет. И потом, приехать на взморье, в разгар сезона, где все шишки, все бонзы, вся сволочь!
— У меня, кроме тебя, никого нет, — ответил Шепшелович, — спрячь, а?!
— Спрячь, — Зовша стал печален, — ты что, не знаешь, что моя комната принадлежит народу? Что я почти не вижу моего ключа, который гуляет от Лиелупе до Вайвари?
Про ключ Зовши ходили легенды — он выручал знакомых, у которых были чувихи, но не было хаты. Кто только не пользовался кроватью Зовши с бутылкой «Рислинга» под ней.
— В полночь придет Арвид, — печально произнес он, — кто мог подумать, что ты заявишься.
Шепшелович почувствовал неладное.
— Кто такой Арвид? — спросил он.
— Капитан, следователь местной прокуратуры.
— Что?! — Шепшеловича затрясло.
— Ша, не ори. Он будет в гражданском, а потом — голый. Ты что — боишься голого следователя? Я задвину тебя ящиком с антоновкой. Это же, кажется, твои любимые яблоки…
…Ровно в полночь пришел Арвид — белый, с мускулистыми ногами, грязными пальцами.
— Ирма, — сказала он, — у меня ночной допрос, времени мало, вы разденетесь сами или как?
Больше он не говорил, пыхтел, потел и, наконец, упал с кровати.
— E… твою мать, — выругался он, — этот еврей мог бы купить кровать и пошире!
Потом он снова забрался, снова пыхтел и снова рухнул.
— Почему бы нам не встречаться у тебя в кабинете? — спросила Ирма.
— Дура, — ответил тот, — а микрофоны?
— Ну и что?!
— Не нервируй меня, у меня ночной допрос. Будем допрашивать еврея, который, видимо, знает, кто написал послание Сталину. Эта сволочь где-то здесь.
Шепшелович сжался и превратился в камбалу.
— Быть может, даже на взморье.
— С чего вы взяли? — хотелось крикнуть Шепшеловичу. Он еле сдержался.
— Если мы его поймаем, — произнес Арвид, — я наверняка получу медаль и десятидневный отпуск. Куда махнем?
— В Палангу, — сказала Ирма.
— На Кавказ не хочешь? — Арвид уже одевался.
«Иди, иди, — подумал Шепшелович, — допрос не ждет…»
После этой пары он хорошо поспал и проснулся от ржавчины, которая валилась на него. На кровати происходило баталище. Там, видимо, был спортсмен-тяжелоатлет. Шепшеловичу всегда было не удобно рассказывать про то, что он вытворял с какой-то Нинель Кузьминичной. Видимо, в пылу страсти он поднимал все — шкаф, буфет, стол и дважды пытался выжать кровать. И дважды Шепшеловичу голосом Нинель Кузминичны пришлось крикнуть: «Ой, не надо! Лучше меня».
И спортсмен кидался на обезумевшую от страсти Нинель Кузминичну… В Риге под кроватью Шепшелович многому научился — Зовша давал ключ многочисленным кандидатам наук, ученым, младшим научным сотрудникам и даже одному доктору наук. Видимо, он был стар и вместо того, чтобы заниматься любовью, рассказывал Сусанне про болезни земли — он был доктор геолого-минералогических наук.
— Сусанночка, — говорил он, — в земле есть трещины, на них и возле жить нельзя — человек плохо себя чувствует, у него ломит тело, нет сил, ему плохо.
Шепшелович лежал под кроватью и думал, что он все время живет на трещине, и не пора ли ему перебраться туда, где трещин нет, пожить немного нормальной жизнью. Где такая земля без трещин?
— В Израиле, — донеслось с кровати, — в Израиле, Сусанночка, но если вы кому-то об этом скажите — я туда никогда не доберусь. Я все время на трещине, Сусанночка.
— Григорий Морицович, — сказала она, — мы с вами встречаемся пятый раз — и все время вы читаете лекции. Может, у вас не получается оттого, что вы лежите на трещине?
Это был удивительный человек, этот геопатолог. Благодаря ему Шепшелович узнал всю нашу землю и все ее камни, и для чего тот и этот.
— Александрит, Сусанночка, — вещал он где-то в три ночи, — от сердца, нефрит — от почек, аметист…
— Григорий Морицович, — томно стонала Сусанна, — у меня что-то с сердцем.
И вскоре геопатолог притаскивал ей перстень с александритом.
— Григорий Морицович, что-то почки пошаливают.
— Ах, бедняжка, — вскрикивал геопатолог и на следующей встрече одевал на нее нефритовый браслет.
Однажды Сусанночка попросила жемчуг.