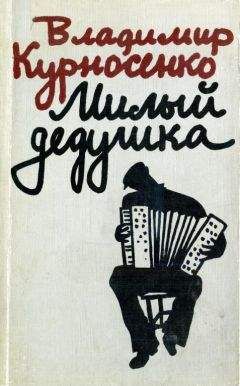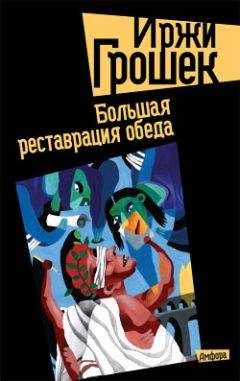Он был стар и мудр, как может быть мудр человек, всю жизнь размышлявший о ее смысле и цене. Я слушал его, хотя не задавал вопросов, которыми был полон в юности. В минуты, проведенные со смертью, была ли то смерть отца или сарацина, убитого мной под крики исходящей похотью толпы, я уже пережил ту последнюю истину жизни, которую может осилить человек. Ведь уже зная ее, я любил Юнию, потому что хотел не истины, а любви… И все-таки…
Когда-то в Кумах, подростком, я был свидетелем настоящей философской диатрибы. Это было в саду Исидора, знаменитого киника, бывшего такой же гордостью нашей провинции, как и пещера Сивиллы. Исидор беседовал с одним из учеников. Смысл слов был темен и непонятен для меня, школьный товарищ, приведший меня сюда, хихикая, показывал на босые ноги Исидора, но я смотрел на лицо, смотрел и с тоской чувствовал всю его красоту и недоступность. Потом, на форуме, я слушал великих ораторов Рима, у Руфрия бывали знаменитые лирики, политики, от решений которых зависела жизнь тысяч людей, но ни разу не появилось у меня ощущения, подобного тому, в детстве, в саду, когда мне почудился в спокойном лице Исидора тот отсвет великой души, которую вселяют иногда в человека боги. Никогда позже у меня не появлялось мысли, что вот этот или тот умный человек знает о жизни то, чего не знаю я… И вот теперь, когда я уже не ждал мудрости, не завидовал и не желал ничего узнавать, здесь, в тюремной камере, беседуя и играя со стариком в кости на холодном полу, я узнал, что та прекрасная, разумная и напряженно-счастливая жизнь, прикоснувшаяся в саду Исидора к моей детской душе, не была обманом, нет…
Я вошел. Дверь, лязгнув, захлопнулась за моей спиной — из угла светлыми простыми глазами смотрел старик, до самого подбородка укутанный в плащ, что носят ветераны, отслужившие в средних чинах положенный срок. Смотрел, как смотрит собака на одинокого прохожего — не поднимая тяжелой головы с передних лап, лишь ненадолго открывая спокойные глаза.
Это и был старик, мой товарищ перед смертью и навсегда. Потом, после его смерти, я понял, зачем соединили нас в одной камере. Если хочешь, чтобы два человека ненавидели друг друга, скажи им, что один из них будет жить, а другой умрет.
Скажи и жди — и ты добьешься своего. И еще… Один из нас должен был пережить смерть другого, чтобы сильнее бороться за жизнь. Как можно сильнее…
Камешки для игры в разбойники нам приносил «Эй, друг» — так мы звали нашего охранника с легкой руки старика. «Эй, друг, — говорил старик, — нельзя ли подогреть сегодня немного воды?» И Эй, друг улыбался морщинистой улыбкой пожилого крестьянина и приносил воду.
«Иметь и не желать — одно и то же, — объяснял мне после ужина старик. Мы лежали на своих сколоченных из сырых досок кроватях, и в окно запахом гнили дышала пустая ардиатинская ночь. — Главное — избавить себя от страданий…» Избавить от страданий, думал я, от страданий — так просто… «Свободы легче достигнуть, — тихо говорил старик, и лицо его было печально, — легче — не исполнением желаний, а отречением… отречением от них…»
Я знал, он прав, человек не должен желать и надеяться. Но я не хотел, не мог принять в душу то, что понял давно и что внушал мне теперь старик. Можно разъять разумом и убить мою любовь, можно было, да я и сам знал это, — расчленить и разрушить последний груз в моей душе, именно сейчас, здесь… Избавиться от этой любви, стать свободным, снова не бояться смерти… Это было спасение, старик жалел меня, но я — я не мог принять его. Юния склонялась к моему лицу, стоило только закрыть глаза, я засыпал под шепот старика, улыбаясь и не веря в смерть.
Старик опоздал ко мне со своей мудростью. Я не хотел быть неуязвимым. Пока у меня была надежда — одна минута нашей любви, оплаченная страданием, была мне дороже десятилетий покоя.
Мы играли в кости, и у старика выпала «Венера» — на всех четырех костях разные цифры — когда заклацал ключ в замке, заскрипела дверь, и бледный Эй, друг впустил в камеру Нерона и его свиту. С Нероном был Авл Пифолай, евнух Спор и… Спикул.
12
Нерон, захлебываясь, смеялся и, оглядываясь на дверь, где стояли Спор и Пифолай, как бы приглашал их разделить с ним удовольствие от нашей растерянности. Руки его не находили места, голова вертелась по сторонам, глаза не задерживались в одной точке больше мгновения. Он был похож на мелкую хищную птицу. Она уже подлетела к трупу своей жертвы, но все никак не примется за нее, все крутит головой, подпрыгивает, прихлопывает крылышками… Красивое, в пятнах золотухи лицо, тяжелые плечи, тугой живот, кривые жилистые ноги… Цезарь, принцепс, император… артист, поэт, наездник, музыкант… Первый кавалер империи — чем не мужчина, черт побери! Убийца матери, жены, сестры, трусливый, мстительный, расчетливый, слабоумный… О боги! Когда горел Рим (по слухам, подожженный им же), он стоял на башне Капитолийского дворца и, глядя на бушевавшее пламя, в поганом восторге пел «Гибель Трои».
Старик встретил его взгляд и повернулся ко мне. «Твоя очередь!» — сказал он. Рука моя потянулась взять кости, но остановилась на полпути. Я знал, если я возьму сейчас кости, — Юнии мне больше не увидеть. И я убрал руку.
Нерон взвизгнул и захохотал, дергаясь и тыча пальцем в старика: «Так! Так! Я вижу, и здесь твои успехи не так уж велики… (тут он назвал имя старика). Да… Маловато было времени для бесед. А может быть, тебя не слушают?.. — Он заглядывал в лицо старику, оборачивался к дверям, ко мне, улыбался, и, когда раскрывался его рот, между зубами и нижней губой натягивались белые слюни. — Ну что же ты молчишь, учитель?! — хлопал он себя по ляжкам, приседая и вздрагивая от возбуждения. — Расскажи нам про Эпикура! Научи не любить наслаждения!»
Евнух Спор и Пифолай тоненько похохатывали, поддерживая веселье. Спикул о чем-то тихо беседовал с Эй, другом. Старик сидел согнувшись и глядел в пол. Казалось, он не слышит. Когда Нерон замолк, он поднял голову и снова посмотрел на меня: «Твой ход!»
Я бросил кости.
Нерон подбежал и наступил на них ногой. Теперь он глядел на меня. Ласково положил руку на мое плечо и даже чуть присел, чтобы лучше заглянуть в глаза. «Она не любит тебя, дурачок! Она полюбила другого… — Голос был грустен и тих. — Ты знаешь, кого она полюбила, Габиний?» Тут от дверей покатился такой заливистый неудержимый хохот, будто целую стаю гиен выпустили из вольеры. Я прыгнул, но в последний миг несильный, точный удар в живот свалил меня на пол. Нерон корчился у дверей от нового припадка смеха, а Спикул стоял надо мной и ждал, не повторю ли я прыжок.
Я лежал на холодном полу, заглатывая воздух, как умирающая рыба, и мой рассудок не мог подыскать ни одной мысли, ни одного суждения, которые помогли бы мне справиться с унижением и растерянностью. Я вспомнил, как Юлла божился мне однажды, прижимая руки к испуганному лицу, что в день, когда Нерон умертвил свою мать, одна женщина в Риме родила змею…
Потом он снова подошел ко мне. Теперь они стояли рядом — Нерон и Спикул. Я видел их переминающиеся ноги. Нерон говорил. Смысл слов был неясен, но сами слова запомнились, и, придя в себя, я понял их задним числом. Он принес с собой цесты[8]. Мы устроим здесь, в камере, кулачный бой, если, конечно, я желаю этого. Спикул будет судить нас. Он надеется, Спикулу я верю. Я должен гордиться — со мной будет драться цезарь. Гордиться даже поражением. Хотя, разумеется, особой причины для боя нет. Из-за какой-то потаскухи, каких много. Но он готов, да, он готов, если я буду настаивать…
Я начал подниматься. Спикул не трогал меня. И меня больше не ломало ненавистью, и я не собирался нарушать правила игры. Я выбрал, и мне стало легче. Мы будем драться, и я убью его. Мы встретились взглядом, и что-то подалось в его глазах. Они помутнели и забегали. В минуты опасности он всегда становился сообразительным. Боя не будет…
«Собака!» — раздалось в затянувшейся тишине.
Нерон вздрогнул и поискал глазами Спикула. От дверей придвинулись те двое. Теперь они не смеялись.
«Собака!» — повторил старик и показал на кости. На всех четырех правда были единицы — «собака».
Несколько секунд стояла такая тишина, что было слышно, как переговариваются охранники в тюремном дворе. «Вот если бы ты ее увидел, тогда бы и говорил, — бубнил молодой, рассудительный голос, — а то не видит, а говорит, вот если бы видел, тогда бы и…»
— Тебе! — показывая пальцем в старика, хриплым голосом произнес Нерон. — Умереть вечером! Ты учил меня жить, помня о смерти, чтобы не бояться ее… — Лицо его стало серьезным, почти грустным. — Ты можешь доказать, что слова твои не расходятся с делом. Умри!
Тут он не выдержал, и на бледном, в красных пятнах лице его появилась знакомая усмешка.
— Тебе! — Его короткий жирный палец уперся в меня. — Тебе я даю один шанс, рогоносец! — Он подмигнул Пифолаю и снова заливисто расхохотался. Он долго опять дергался и приседал, потом обнял одной рукой педерастически выгнутую спину Спора и вдруг, мотнув головой, будто замахиваясь для клевка, схватил его зубами за плечо.