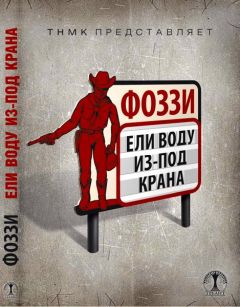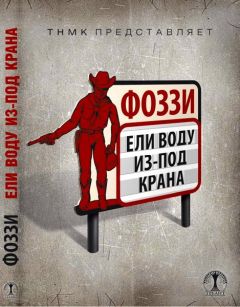Зинка, с которой Мирон два года отчаянно зажимался в парке Щорса, после медляка отбыла с Кирпичом в школьный двор, а Мирон отканал по-тихому, собирать вещи. Наутро на вокзале был встречен Алик, и судьба сделала нехуёвый поворот.
Мирон миллион раз представлял себе, как возвращается на красном кабриолете БМВ, при золотой цепочке и звонит в её дверь, как Зинка плачет и клянётся в вечной любви. Ни машины, ни цепи не было, но зайти первым делом нужно было к ней. Сердце стучало, как пулемёт «Максим» в фильме про Чапаева. Мирон решил, что пора бы свернуть голову первому «Арарату» и зарядиться уверенностью, и тут увидел Зинку с коляской, переходившую проспект.
Она вообще не изменилась, зато Кирпич рядом узнавался с трудом. Рожа у него стала шире в два раза, а над ремнём нависал момон. Мирон на автомате дёрнул в подворотню, пропустил их и посмотрел вслед. Они шли с красивой голубой коляской и над чем-то своим смеялись. Можно было подумать, что кто-то им рассказал историю Мирона, как его поймали, депортировали нахрен, и что он сейчас прячется у них за спиной...
Первый «Арарат» Мирон сложил лично. Стало так себя жалко, что этой жалостью нужно было с кем-то срочно поделиться. Через два дома, на проспекте Ильича, жил Чика. Как и следовало ожидать, он сидел с доминошниками во дворе.
Чика тоже ни капли не изменился, вскочил на ноги и заорал своё обычное: «Епаааатьевский монастырь, Андрюха!», кинувшись обниматься.
Пошли на школьный двор, где добили два оставшихся коньяка за встречу и за помин души Сявы. Он, как оказалось, единственный из их троицы продолжил барыжить и стал крепко на базаре. Купил красную восьмёрку, но потом что-то у него в голове начало заедать, и Сява начал по-чёрному задрачивать мусоров. Он выезжал в соседние города, нарушал на глазах у гаишников, а потом уходил на большой скорости. Они так и не могли его поймать, пока в Лисичанске Сява не впаялся наглухо в опору моста.
Выплакав две полбанки, Мирон и Чика вернулись во двор к мужикам, и за смешные деньги купили половину трёхлитровой банки самогона. Ещё взяли в киоске газировки, солёных семечек и пошли на кладбище, которое было рядом, за железнодорожным переездом. Чика там от родного напитка сначала приободрился и поклялся замочить Кирпича за ту херню на выпускном, но потом лёг на широкую лавочку возле могилы доктора Мееровича и наглухо заснул...
Мирон сел на обрыве и попытался придумать, что делать дальше. К родыкам идти не хотелось, к Зинке уже было нельзя. Жалость стянула горло, но он не заплакал. Он зажал в горле все эти годы, когда приходилось делать совсем не то, чего ждала от здоровых людей природа. Он стиснул себя пионера и себя комсомольца, себя на выпускном и себя же во французской тюрьме.
Мирон понял, что ни в чём нет смысла ни на гулькин хер и резко встал. Его шатало, он спотыкался и падал, спускаясь к пере езду. Он обогнал зелёный маневренный тепловоз и быстро, пока не передумал, сложился под большие ржавые колёса.
Чика
На следующее утро участковый Воронков нашёл Чику на кладбище, поднял с ноги, всё ещё бухого, и повёл на пути. По дороге он рассказал, что вчера вечером его пропавший дружок Мирон, видать, свалился с луны и угодил аккурат под теплушку. Водитель тепловоза, старый Семён, от увиденного схватил инфаркт и неизвестно, выживет ли, годы ж немаленькие. Чика спотыкался, но шёл за представителем власти. Он тихо надеялся, что его хапнула белка, что и Мирон, и Воронков ему просто кажутся, а на самом деле он сошёл с ума и спит у себя во дворе.
Зорян
За три года он прикипел к этому пацану. Дурной он, конечно, но кто умён? Зорян несколько раз в неделю ходил в интернет-кафе на Rue De La Sante и сидел среди пьяного молодняка. Он рылся в украинской прессе и искал любое упоминание об Андрее Мирошнике, двадцати одного года. Газеты на родине не спешили поддержать мировые тенденции и всю информацию на свои сайты не выкладывали. Так, какие-то фото, координаты редакции и обязательно телефон отдела продаж, будто кто-то станет покупать их в интернете.
Через месяц поисков он нашёл в архивахлент новостей информацию о трагедии в маленьком шахтёрском городке и написал письмо в редакцию местной газеты. Всего через два месяца они ответили, подтвердив, что так и есть, погиб местный житель Мирошник Андрей Васильевич.
Зорян попросил Мишеля увеличить и распечатать фото, на котором Мирон, Зорян и Алик смотрят по телевизору футбольный матч Франция-Украина. Он обвёл Мирона чёрной рамкой и повесил в швейцарской, но гнида Кадер заставил его снять, чтобы не раздражать попусту жителей дома. Пришлось перевесить к себе в подвал.
В отместку Зорян стал рассказывать всем жильцам, что его молодой помощник уехал домой в отпуск и там трагически погиб. Все кивали головой, сочувственно цокали языком и говорили, как им жаль. Одна только мадам Жевеньева с третьего этажа — вот уже добрая женщина — узнав об этом, расплакалась прямо посреди холла. Зорян испугался, как бы чего не вышло, но мадам успокоилась и на вопрос, всё ли с ней в порядке, ответила, что у неё всё лучше всех. И пошла к себе наверх.
Таким образом, мы с ней, совершенно независимо друг от друга, сделали одно открытие: даже уроженцы нашей страны, стоило им взобраться на верхушку или родиться на верхушке, относились к Американцам как к чужому народу. Похоже, что это касается и людей на верхушке бывшего Советского Союза: для них простые люди, их собственный народ, были как неродные, они их не очень-то понимали и не очень-то любили.
Курт Воннегут. Фокус-покус, 1990
В ферзи выходит одна пешка из миллиона.
Дебют
В любой ситуации, даже в самой что ни на есть херовой, папа Марк говорил, что главное — это мыло не ронять. Если вдуматься, очень правильная фраза. Папа Марк сидел дважды, по хозяйственно-политической части, то есть дело было вполне хозяйственным: патенты там, туда-сюда, неучтеночка, но подоплеку за всё хорошее ему привешивали политическую: Ялта, чеки, ломка, куклы, иностранцы (примечание переводчика: чеки — замена инвалюте, принимавшаяся в магазинах «Берёзка», ломка — кидок при помощи заламывания пачки, куклы — пачки денег, заряженные пустышкой). Папа говорил, что фарцу ему вешали за компанию, и многие верили.
Оба генеральных направления часто пересекались между собой, хотя иностранцев в Евпатории было мало — Севастополь рядом, станция на мысе и всё такое прочее. Чеки водились у моряков, ходивших в загранку, а в плане иностранцев иногда проскакивал народец из варшавского договора. Румыны, поляки, венгры. С одним венгром, Ласло, Яша даже лежал в прошлый раз в больничке. Ласло крепко нарушил курортный режим и был снят с крыши кинотеатра «Родина», распевающим «Марсельезу». Дело было пустяковое, но его на всякий случай приложили на несколько дней в психдиспансер.
Благодаря иностранному происхождению представителя заграничного соцлагеря определили в отдельную палату на втором этаже, с большим окном, но он свободно выходил на перекур и в столовую. Так вот, Ласло рассказывал такое, от чего действительно можно было сойти с ума. И уже по-серьезному. Если верить ему на слово, то венгры после пятьдесят шестого года (примечание переводчика: Венгерская революция 1956 года, подавленная советской армией) вытребовали-таки себе окошко на Запад. И нехеровое, между прочим, окошко — с семьдесят пятого года они могли без виз ездить в Австрию! Ясное дело, что большая часть экскурсантов вместо того, чтобы фотографироваться на фоне Вены и пить тамошний легендарный кофеёк, плавно терялась и всплывала в специальных лагерях для эмигрантов. Это, наверное, были те же лагеря, в которые попадали наши бывшие граждане по дороге в Америку или Израиль.
Яков Маркович Демирский, судя по имени, отчеству и фамилии, не говоря уже о внешности, тоже имел шансы когда-нибудь очутиться в таком лагере, но эта идея всякий раз напарывалась на небольшой по размерам, но непреодолимый айсберг — папу Марка. Демирский-старший был ярым советчиком, у него и совет был по любому поводу, и Союз Советских Социалистических Республик был ему ближе родной матери. По крайней мере, так утверждала бабушка Роза.
Ну казалось бы — евреев начали выпускать из Союза, а с такими талантами папа найдет себя в любом обществе, при любом строе, ведь два раза уже оттоптал за то, что при капитализме только приветствуется. Но — нет. Причём в случае с папой не просто «нет», а «нет, БЛЯДЬ!»
Последний спор на эту тему закончился очень плохо. Было это в аккурат на Новый год, бабушка Роза настрогала выварку оливье, сделала фаршмак (примечание переводчика: вообще-то правильно говорить «форшмак» (от немецкого Vor(ge) schmack — предвкушение), блюдо еврейской кухни: паштет из селедочного фарша с добавлением белого хлеба, лука, яблока, желтков и т.д., в зависимости от рецептуры вашей бабушки) и ушла к себе на Пляжный — у них тогда с папой был очередной период взаимного молчания.