Они растерянно смотрели на него; они не слишком ему верили, или, может быть, не совсем его поняли. Слесарь философски заметил:
— Одно ясно — паны дерутся, а у холопов чубы трещат.
Скрипач одобрительно покачал головой, и они погрузились в молчание, наборщик отвернулся и приник лбом к одному из больших оконных стекол коридора. «Очевидно, — подумал Матье, — они не горят желанием воевать». Он думал о людях четырнадцатого года, об их широко раскрытых глотках и ружьях, украшенных цветами. Ну и что дальше? Правы эти. Они говорят пословицами, но слова их выдают, в их голове есть нечто, что не может быть выражено словами. Их отцы участвовали в бессмысленном побоище, и вот уже двадцать лет им объясняют, что война — это разорение. После этого от них хотят, чтобы они кричали: «На Берлин!» Тем не менее, все, что они говорили, все, что они думали, не имело никакого значения: крошечные тайные мерцания на полях их судьбы. Скоро будут говорить: «солдаты тридцать восьмого года», как говорили: «солдаты одиннадцатого года», «солдаты четырнадцатого года». Они будут рыть траншеи, как другие, не лучше, не хуже, а потом лягут в них, потому что таков их жребий. «А ты! — вдруг подумал он. — Что ты лезешь в свидетели, хотя никто тебя об этом не просил; кто ты? Что ты там будешь делать? И если ты выживешь, кем ты станешь?»
Наборщик ткнул пальцем в стекло.
— А они все еще там.
— Кто? — вздрогнув, спросил скрипач.
— Самолеты. Они кружат вокруг поезда.
— Кружат? Ты не спятил?
— Ну я же их вижу!
— Ну и ну! — сказал слесарь. — Ну и ну! Проснулся маленький старичок.
— Что случилось? — спросил он, приставляя к уху ладонь.
— Самолеты.
— А-а, самолеты!
Он бессмысленно улыбнулся и снова заснул.
— Идите сюда! — позвал наборщик. — Идите сюда! Их, может, штук тридцать. Я столько никогда не видел со времен авиапарада в Виллакубле.
Слесарь и стряпчий встали. Матье вышел за ними в коридор. Он увидел десятка два маленьких прозрачных существ, креветок в воде неба. Казалось, они существуют переменно: когда они не были под солнцем, они исчезали.
— А если это фрицы?
— Не каркай. Все будет в порядке. Иначе выходит, мы мишени.
Теперь в коридоре было человек двадцать, и все задрали головы.
— Дело нешуточное, — сказал стряпчий.
У всех был обеспокоенный вид. Один барабанил по стеклу, другой нервно постукивал ногой. Эскадрилья сделала крутой вираж и исчезла над поездом.
— Уф! — вздохнул кто-то.
— Смотрите! — воскликнул наборщик. — Смотрите! Они уже своего добились, говорю вам, они кружат над составом.
— Вот они! Вот они!
Высокий усатый молодец опустил стекло и высунул голову наружу. Самолеты снова появились, один оставил за собой белую полосу.
— Это фрицы, — выпрямляясь, объявил усатый.
— Повезло.
Позади Матье вдруг вскочил скрипач: он начал трясти двух спящих.
— В чем дело? — еле ворочая языком, спросил один из них, приоткрывая покрасневшие глаза.
— Войну объявили! — говорил скрипач. — Сейчас фрицы будут бомбить поезд — над нами их самолеты.
Лола нервно сжала запястье Бориса.
— Слушай, — сказала она, — слушай. Жак позеленел.
— Слушай. Он сейчас будет говорить.
Это был медленный, тихий и глухой голос, немного гнусавый.
«Ранее я объявил, что сегодня вечером сделаю сообщение о международном положении, но сегодня днем я был извещен о приглашении немецкого правительства встретиться в Мюнхене с рейхсканцлером Гитлером, а также господами Муссолини и Чемберленом. Я принял это приглашение.
Надеюсь, вы поймете, что накануне таких важных переговоров я обязан отложить те объяснения, которые намеревался представить. Но сейчас я считаю необходимым адресовать французскому народу мою благодарность за его поведение, полное мужества и достоинства.
Я считаю необходимым особенно поблагодарить тех французов, которые были мобилизованы, за их хладнокровие и решительность, столь ярко ими продемонстрированные.
Моя задача тяжела. С самого начала сложностей, которые мы переживаем, я не переставал трудиться изо всех сил ради сохранения мира и жизненных интересов Франции. Завтра я продолжу эти усилия с мыслью о том, что я в полном согласии со всем народом»[68].
— Борис! — позвала Лола. — Борис! Он не ответил. Она его тормошила:
— Проснись, дорогой, что с тобой? Объявили мир: завтра будет международная конференция!
Она, красная и возбужденная, повернулась к нему. Он тихо выругался сквозь зубы:
Черт бы все побрал! Чтоб им всем… Радость Лолы угасла:
— Что с тобой, дорогой? Ты весь позеленел…
— Я же завербовался в армию на три года, — сказал Борис.
Поезд шел, самолеты кружили.
— Машинист рехнулся! — крикнул кто-то. — Чего он ждет, почему не останавливается? Если начнут бомбить, нас перебьют, как скот.
Наборщик был бледен и совершенно спокоен; задрав голову, он не переставал следить за самолетами.
— Придется прыгать, — процедил он.
— Еще чего! — вскинулся стряпчий. — Прыгать на такой скорости! — Он вытащил платок и промокнул лоб. — Лучше сорвать стоп-кран.
Наборщик и слесарь переглянулись.
— Давай-ка! — предложил наборщик.
— А вдруг это наши? Хороши же мы будем!
Матье толкнули в спину: какой-то толстяк бежал к дверям и кричал:
— Он сбавляет ход: все к выходу!
Наборщик повернулся к стряпчему; у него были странные, медленные и неуверенные движения, на губах играла злая улыбочка.
— Вот видите, и этот храбрец замедляет ход: значит, фрицы. «Это для вида, это для вида!» — сказал он, передразнивая стряпчего. — Что ж, смотрите, для какого это вида…
— Я этого не говорил, — вяло возразил тот, — я сказал-…
Наборщик повернулся к нему спиной и направился вперед по ходу поезда. Из всех купе выскакивали люди, они спешили в коридор, чтобы первыми выпрыгнуть в поле. Кто-то тронул Матье за руку — это был маленький старичок, он поднимал к нему лицо и в замешательстве смотрел на него.
— Что случилось? Что случилось?
— Ничего, — раздраженно ответил Матье. — Спите дальше.
Он высунулся в окно. Два человека спустились на подножку вагона. Один из них с криком прыгнул, сделал два шага по инерции, ударился плечом о телеграфный столб и головой вперед покатился по откосу. Поезд уже прошел мимо него. Матье повернул голову и увидел, как человек встал, совсем маленький издали, поднял руки и побежал через поле. Другой колебался, свесившись вперед, и держался одной рукой за медный поручень.
— Не толкайтесь там, черт побери, — произнес сдавленный голос. — Тут задохнуться можно.
Поезд еще больше замедлил ход. Во всех окнах торчали головы, а на подножках висели люди, готовые прыгать. На повороте появился вокзал, он был в трехстах метрах, вдали Матье заметил маленький городок. Еще два человека спрыгнули и перемахнули через переезд. Поезд уже подходил к перрону. «Вот из таких, — подумал Матье, — будут делать героев».
Из здания вокзала исходил нараставший гул, светлые платья сверкали на солнце, поднимались руки в белых нитяных перчатках, девушки в соломенных шляпках махали платками, вдоль перрона, смеясь и крича, бегали дети. Скрипач грубо оттолкнул Матье и наполовину высунулся из окна. Он рупором приложил руки ко рту:
— Бегите! — крикнул он в толпу. — Самолеты! Люди на вокзале, не понимая, смотрели на него, они улыбались и кричали. Он поднял руку над головой, показывая на небо пальцем. Ему ответил общий громкий крик. Сначала Матье толком не расслышал, потом вдруг понял:
— Мир! Мир, ребята! Весь поезд гудел:
— Самолеты! Самолеты!
— Ура! — кричали девушки. — Ура!
В конце концов они посмотрели на небо и, подняв руки, замахали платками, приветствуя самолеты. Стряпчий нервно грыз ногти.
— Не понимаю, — бормотал он, — не понимаю…
После двух-трех толчков поезд окончательно остановился. Вокзальный служащий поднялся на скамью, держа под мышкой свой красный флажок, он крикнул:
— Мир! Конференция в Мюнхене. Даладье уезжает сегодня вечером.
Поезд притих, неподвижный, непонимающий. И потом внезапно завопил:
— Ура! Да здравствует Даладье! Да здравствует мир!
Платья из голубой и розовой тафты исчезли в массе коричневых и черных пиджаков; толпа заволновалась и зашумела, как листва, солнечные блики мелькали повсюду, фуражки и соломенные шляпы кружились, кружились, это был вальс, Жак закружил в вальсе Одетту посередине гостиной, госпожа Бирненшатц прижимала к груди Эллу и стонала:
— Я счастлива, Элла, дочь моя, дитя мое, я счастлива. Под окном краснолицый молодой парень хохотал как сумасшедший, он налетел на крестьянку и расцеловал ее в обе щеки. Она тоже смеялась, вся растрепанная, со сползшей назад соломенной шляпой, и кричала «Ура!» между поцелуями. Жак поцеловал Одетту в ухо, он ликовал:
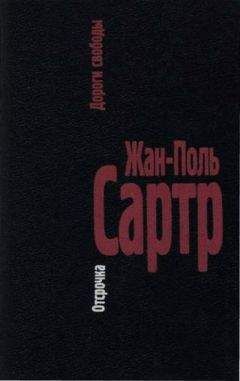

![Фабрис Колен - КОЛЕН Ф. По вашему желанию. Возмездие[]](https://cdn.my-library.info/books/75333/75333.jpg)

