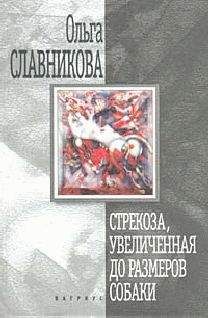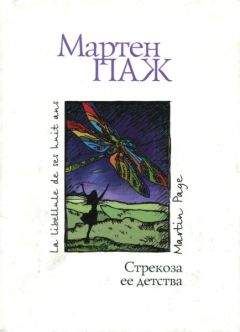Было несколько месяцев, когда Рябков ни с того ни с сего безумно полюбил свою Танусю, уже беременную. Она была молода и жила, питалась собственной молодостью, сыпала резкими словечками, жевала резинку, бегала с подружкой на эстрадные концерты и плясала там в проходах между рядами, несмотря на живот, делавший Танусю похожей на резвого кенгуру. Рябков с невыразимой жалостью представлял, какой она со временем станет взрослой теткой. Он не мог уйти из дому в ее отсутствие, а если уходил, то чувствовал себя словно в незнакомом городе с зеркальными свойствами уличного транспорта и поспешно устремлялся назад, чтобы снова сидеть одному, наедине с Танусиными вещами, грустно сравнивая фасонистые, с барахолки, и домашние, словно подпаленные под мышками, небрежно брошенные на измятую кровать.
Вторая часть этой запоздалой любви случилась перед разводом, неизбежным из-за растущей бессловесности Рябкова, не способного ни о чем поговорить. Уже тоскуя друг по другу, каждый с камнем на сердце, они не могли расстаться даже на единый час: если один вставал, собираясь идти, другой хватал его за рукав, они буквально не давали друг другу двигаться и сидели в квартире голодные, соскребая с бумажки остатки маргарина на черствые горбушки, скрежетавшие под ножом. Если кто-нибудь предлагал – как будто в шутку – остаться вместе, оба чувствовали впереди такую безнадежность, что замирали, глядя в разные точки. Обычно Рябков, первым стряхнув оцепенение, подходил к Танусе, сидевшей очень прямо, с книжкой в подоле, и обнимал ее, как обезьяна. Это их затворничество странно походило на семейное свидание в тюрьме: отсутствие дочери, отведенной к теще, давало им возможность без конца утолять животную, дикую страсть, вспыхнувшую от горя, как вспыхивают от переживаний приступы обжорства. Тануся, вся в истоме, словно не в силах носить на ногах свою неправильную, перевернутую тяжесть, делалась странно рассеянной, даже неловкой. Полуснятые трусики – сначала с левого, а после с правого ленивого холма – застревали между пополневших ног, будто приклеенные ее горячим медом,– зато Рябков становился напорист и теперь, на краю большого одиночества, позволял себе с женою все, что проделывал в мечтах с позирующей ему натурщицей, от которой осталась на память какая-то влажная, холодеющая от ветра пустота. Снова однорукий, другой рукою поощряя рост своего танцующего ваньки-встаньки, он заставлял Танусю откинуться на сбитые подушки и, сидя около, будто врач, тревожил, баламутил ее парную белизну, временами чувствуя под рукой округлые и полные, полней, чем груди, толчки ее взволнованного сердца. Сердце шевелилось и струилось под его ладонью, будто это был родник, наполняющий до краев большую ванну молока; так он работал, пока Тануся, с колтуном волос на рваной наволочке и с гримасой заики на запрокинутом лице, не забывала вовсе о его существовании и не начинала чувствовать только себя. Тогда она вдруг принималась охотиться за его рукой, хватая ее царапучими пальцами и шлепающими коленями, переваливалась на нее с тяжелым уханьем, больно зажимая ее на грубой кроватной пружине. Ее овсяные, клейкие губы кривились, ее глаза под веками трепетали, не в силах раскрыться, между жестких ресниц трепетали полоски белков. Распинывая на пол и чуть ли не на стену мешковатую постель, Тануся становилась будто безумная, и когда Рябков, предчувствуя предел, забирался на койку прямо в расстегнутых, бряцающих штанах, она помогала ему с такою нежностью и дрожью, будто спасалась под ним от ледяного холода.
Почти немедленно происходил тягучий, горячий выстрел в упор, Тануся еще какое-то время подергивалась, мокро кашляя и размазывая по щеке прозрачную слюну. Потом они лежали тихо-тихо, незаметно отодвигаясь друг от друга. Рябков запоздало стаскивал растерзанную одежду и чувствовал смутное, слабеющее тепло Тануси, вдыхал только теперь пробившийся к нему ее фруктовый запах – запах перегретых, забродивших яблок. Случалось, он задремывал и слышал сквозь сон, как на той стороне коридора, урча, набирается ванна, как Тануся встает и ходит по комнате, что-то перекладывая, складывая в стопки, собирая осторожно несомые, чуть сыпучие дочкины погремушки. Тогда он перекатывался на Танусино глубокое, стынущее место – туда, где ему в этой перевернутой квартире больше всего не хватало жены,– и там, во сне, у него возникала убежденность, что он уже теперь совсем один, что будто он немой,– и эта жаркая, толстая немота оказывалась, когда он просыпался, непрорвавшимися слезами, запертыми во сне и лишними наяву.
Именно в это время Танусин портрет был изъят одним из «продвинутых» дядек, каким-то малознакомым, маловразумительным, имевшим при себе замусоленный список, снабженный сложной алгеброй из крестиков и птичек, и помещен на выставку самодеятельных художников в далеком, как соседний город, заводском районе, в тамошнем металлургическом ДК. Рябков побывал на выставке уже под самое закрытие и только для того, чтобы поглядеть на жену. К этому времени он пережил процедуру в суде – среди рассохшейся мебели, при сухом и беспощадном солнце, составлявшем вместе с пыльным и голым окном какую-то абсурдную постройку, в которой Тануся сидела через два пустых горячих стула от Рябкова, и он впервые видел ее с короткой стрижкой, аккуратной, будто платяная щетка. Оба они были словно оглушены: чтобы привлечь внимание разводящихся супругов, женщина-заседатель стучала ручкой по твердой зеленой папке, а потом их вниманием пытались завладеть афиши, светофоры, застава рассеянно-цепких цыганок с полурастаявшей, не нужной Танусе губною помадой, очередь за мороженым.
Вскоре после развода Рябков сумел уйти от Тануси – не утром, как собирался, а только поздно ночью. День пропал неизвестно куда: Тануся, вся опухшая, пихала в сумки Рябкова подбираемые с полу вещи, умоляя ее избавить, желая как можно больше нагрузить Рябкова, отяготить его уход неподъемной виной. Помнится, они поссорились из-за фаянсовой супницы. Посудина никак не влезала поверх натолканных Танусей одежных комьев (где самым драгоценным оказалась впоследствии ее случайно попавшая юбка), и в конце концов Рябков эту супницу разбил, и они продолжали ссориться уже совершенно вхолостую, над пустыми крупными осколками, один из которых был половиной супницы, над мелкой фаянсовой щепой с остатками белизны. Потом они едва не подрались, нелепо хватая друг друга за угловатые руки, охаживая ветром вялого, нехлещущего тряпья; Тануся выскочила на кухню попить и там поскандалила с соседкой Эльвирой Эриковной. Эльвира Эриковна, с нерасчесанной завивкой на полотняно-белой голове и с лихо намазанной маской из сметаны, прибежала за ней, потом, умывшаяся и жирная, прибежала опять, тыча Рябкову в лицо жилконторовской книжкой за газ и за свет; в распахнутых дверях замерла на полпути другая соседка, лениво вытирая ладони о высокую задницу. Теперь скандал распространился по квартире и уже не принадлежал бывшим супругам Рябковым, как не принадлежало им, казалось, развороченное, недоупакованное, никому из них не нужное имущество, которое Тануся кинулась зачем-то прибирать, машинально расставляя вещи на свои места. Тут и там в неузнаваемой комнате вдруг возникало прежнее, это было как глядеть на разрушенный дом и видеть среди обломков и пыльных струпьев уцелевший сервант, а в нем сервиз. Еще – через воображаемый вскрытый этаж без стены – это напоминало сцену, сценическую декорацию и побуждало к невольному актерству. Бывшие супруги Рябковы натянуто и вежливо улыбались злобным голосам, оравшим друг на друга через всю квартиру, ставшую сквозной, а когда ленивая соседка, много лет обиженная на Эльвиру Эриковну, принесла им миску подгорелых пончиков, бывших на вкус как елочные, из крашеной ваты шары, Тануся светски предложила ей остатки коньяку. Соседка расположилась и, облизывая рюмочку, как леденец, долго увещевала Рябкова заходить, не забывать дочурку и своих родителей, которым, если вдруг приедут, негде будет даже остановиться.
На улице медленно смеркалось; стоячее и бегучее электричество зажглось как всегда, но было бледно и ничего не могло осветить в этом нежном, обмирающем июньском выцветании; световая газета, желтея и как бы зацепляясь за один перекат, неразборчиво текла по крыше подсиненного почтамта. В комнате, распавшейся на середину и углы, было часа на четыре больше, чем за окном, а когда включили резко вспыхнувшую люстру, где сразу лопнула и пропала одна перегоревшая лампочка, стало на шесть. Рябкова и Танусю никак не оставляли в покое, не давали им по-человечески проститься. Наконец Тануся внезапно заснула, будто на вокзале, неудобно пристроив голову на спинке кресла. Косая тень и легкий ситцевый полог халатика между ее раздвинутых, ярко облитых ног сперва возбудили Рябкова, но потом его прошиб холодный пот при мысли проснуться здесь же, среди развалин прежней жизни, в прежней обстановке, которая – он понял только теперь – вызывала у него глубокий ужас и наутро обещала стать уже настоящей тюрьмой. Только теперь он почувствовал, как все здесь наболело: зеленые и синие запасы воды в трехлитровых банках на очередной неизбежный случай аварии водопровода, черный шнур холодильника, книжные стопы на неметеном полу. Рябкову на минуту показалось, что его любовь к Танусе попросту ложь: так выздоровевший больной лжет товарищам по палате, будто ему жаль расставаться с ними, как вдруг узнает, что его не выписали, и садится, с вещами на коленях, на свой уже голый матрас и ни с кем не говорит до самого ужина. Все-таки Рябкову чудилось, что на прощание следует что-нибудь подумать, если не произнести. Он немного постоял над зачарованной и мерзнущей Танусей, но мысли тоже словно бы стояли в шахматном порядке, после первой сразу был тупик,– и Рябков, очень сильно тряхнув очень легкой головой, подобрал, что мог, из багажа и, очень долго поворачиваясь с ним сперва в одной, потом в другой двери – захлопнувшейся прежде, чем он успел подобрать стоявший на проходе портфель,– покинул глухую, одною только комнатой горящую квартиру.